и чуждо характеру Кана, что я не имел права успокаиваться.
не замечал ничего только потому, что не желал замечать.
многих людей в ужасных обстоятельствах, но здесь было нечто совсем иное. Для
меня и для многих других Кан был чем-то вроде монумента - казалось, он был
сделан из более крепкого материала, чем любой другой; он был кондотьером и
донкихотом, робингудом и сказочным спасителем, мстителем и баловнем судьбы,
элегантным канатоходцем и находчивым Георгием Победоносцем, обманувшим
драконов времени и вырвавшим у них жертву. Вдруг я опять услышал радио и
выключил его. Я искал глазами хоть какое-нибудь письмо, но мне сразу стало
ясно, что я ничего не найду. Он умер так же одиноко, как и жил. И я понял,
почему я искал какую-нибудь записку от него: мне хотелось облегчить свою
совесть, найти от него хоть слово, хоть какую-нибудь малость, хоть
что-нибудь, что могло бы меня оправдать в собственных глазах. Но я ничего не
усидел. Зато я увидел размозженную голову в ее ужасающей реальности, хотя
казалось, будто я смотрю на нес издалека или через толстое стекло. Я был
удивлен и растерян: почему он застрелился? Я даже подумал, что это странная
смерть для еврея, но тут же вспомнил, что об этом, со свойственным ему
сарказмом, говорил мне сам Кан, и раскаялся в своих мыслях. На меня снова
обрушилась мучительная боль и самое худшее из всех ощущений: вот навсег[425]
да угас человек, будто его никогда и не существовало, и я волей-неволей
виноват в его смерти.
Равику. Это был единственный врач, которого я знал. Я осторожно снял трубку,
будто и она была мертва и ею нельзя было больше пользоваться. В этот
полуденный час Равик оказался у себя.
делать. Вы можете приехать?
когда ему приехать - сейчас или после обеда; в таких случаях за какие-то
секунды много мыслей проносится в голове.
И ни к чему не прикасайтесь. Я немедленно выезжаю.
не было отпечатков пальцев. Но эту мысль я сразу же отверг: кто-то ведь
должен же был найти Кана и вызвать врача. "Как сильно кино разлагает наше
мышление", - подумал я и мгновенно ощутил ненависть к самому себе за
возникшую мысль. Я сел на стул рядом с дверью и принялся ждать. Потом мне
показалось трусостью сидеть так далеко от Кана, и я уселся на стол. Повсюду
я наталкивался на следы последних мгновений жизни Кана - сдвинутый стул,
закрытая книга на столе. Я открыл ее, пытаясь найти какой-то ответ на
происшедшее, но это не была ни антология немецкой поэзии, ни томик Франца
Верфеля, а всего лишь посредственный американский роман.
мучительнее. Казалось, она забилась в узкий темный угол под столом рядом с
покойным и сидит там на корточках, будто ждет, когда всякий живой шум,
наконец, смолкнет и позволит мертвецу, лежавшему в неудобной позе,
выпрямиться, что[426] бы на сей раз умереть по-настоящему, а не наспех. Даже
желтый свет, казалось, замер, парализованный, остановленный на лету какой-то
невидимой, таинственной силой, и тишина стала более напряженной, чем самая
бурная жизнь. В какой-то момент мне почудилось, что я слышу, как на пол
падают капли крови; но сил убедиться в том, что это не так, у меня не было.
Кан мертв, и это было непостижимо, - даже смерть кролика бывает трудно
осознать, ибо она слишком близка к нашей смерти.
каток. Не останавливаясь, он подошел к Кану и стал его рассматривать. Он не
нагнулся над трупом и не дотронулся до него.
масса вопросов. Предпочитаете их избежать?
теперь уже действительно все равно.
подумают, что я его убил. Равик повернулся ко мне.
случайностях видеть проявление судьбы, нельзя будет и шагу ступить.
узнать.
следующей войне. - Он снял трубку и позвонил в полицию. Номер и адрес ему
пришлось повторять несколько раз. - Да, он мертв, - повторил он. - Да,
хорошо! Когда? Хорошо. - Он положил трубку. - Приедут, как только смогут.
Сержант сказал, что они очень заняты. Убийства в первую очередь. Это не
единственный случай самоубийства в Нью-Йорке.
между нами. На приемнике Кана я увидел электрические часы. Странно было
подумать: приемник Кана, часы Кана. Это уже был анахронизм. Обладание
связано с жизнью. А эти вещи не принадлежали больше Кану, ибо он утратил с
ними связь. Они оказались теперь во власти великой безымянности. Они
лишились своего хозяина и, безымянные, витали отныне во вселенной, как
предметы, утратившие центр тяжести.
вернусь, там могут потребовать, чтобы сдал их еще раз.
нельзя было дать и двадцати лет. - У него не было никаких иллюзий. Нас,
наверное, ненавидят, как и прежде. Вы все еще верите сказке о бедных
изнасилованных немцах? Загляните же в газеты! Они отстаивают каждый дом,
хотя уже десять раз проиграли войну. Они защищают нацистов с большей
яростью, чем мать своих детей, да еще и умирают за них. - Он сердито и
печально покачал головой. - Кан знал, что делал. И не отчаяние двигало им,
он просто был прозорливее нас. - Равик еле сдерживался. - Мне так грустно! -
сказал он. - Грустно из-за Кана. Он спас меня в сороковом году. Я был в
лагере. [428]
охваченных безумным страхом. Пришли немцы. Комендант не дал нам бежать. Я
знал, что меня ищут. Если бы меня нашли, меня бы повесили. Кан разузнал, где
я. В форме эсэсовца, с двумя сопровождающими он явился в лагерь, накричал на
коменданта-француза и потребовал, чтобы ему меня выдали.
проклятой воинской чести. Он заявил, что в лагере меня нет, что меня уже
выпустили. Он был не против передать нас всех скопом, но отдельных лиц
пытался спасти. Кан взбудоражил весь лагерь, пока нашел меня. Это была
комедия ошибок. Я спрятался, так как действительно думал, что пришли
гестаповцы. Уже за пределами лагеря Кан дал мне коньяку и объяснил, что
произошло. Он выглядел так, что я его не узнал. Усы как у фюрера и
перекрашенные волосы. Этот коньяк был лучшим напитком из всех, какие я
когда-либо пил. Он раздобыл его неделей раньше... - Равик поднял глаза. - В
трудных ситуациях он был самый легкий человек, какого я знал. Здесь же он
становился все трудней и трудней. Спасти его было невозможно. Понимаете,
почему я вам об этом рассказываю?
Куда бы мы зашли, если бы каждый думал, как вы? - медленно произнес Равик.
здоровьем люди с грохотом ввалились в комнату, в их неловких пальцах
замелькали огрызки карандашей, послышались глупые вопросы. Кто-то принес
носилки. Нас забрали в полицию. [429]
знакомых, - с горечью произнесла Лиззи Коллер.
производил на женщин особого впечатления. Равик дал знать Танненбауму, а тот
сообщил Кармен, которая ответила, что это для нее не такая уж неожиданность,
и продолжала заниматься своими курами. Отношения Кана с Лиззи были не такими
продолжительными и близкими, и она была значительно менее подавлена, чем на
панихиде по Бетти Штейн. Лицо у нее было розовое и свежее, будто все
потрясения давно уже миновали. "Наверное, нашла себе любовника, - подумал я.
- Какого-нибудь безобидного эгоиста, которого она понимает. Кан и ее не
сумел раскусить: он ведь никогда не интересовался женщинами, которые его


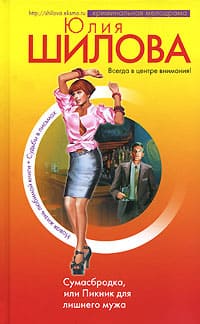
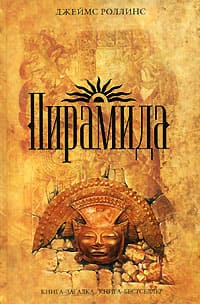


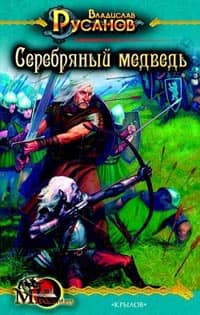 Русанов Владислав
Русанов Владислав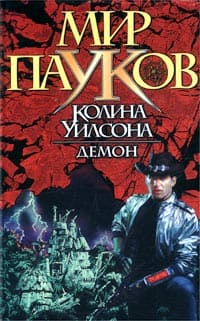 Прозоров Александр
Прозоров Александр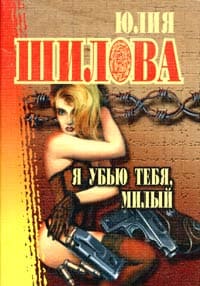 Шилова Юлия
Шилова Юлия Свержин Владимир
Свержин Владимир Конюшевский Владислав
Конюшевский Владислав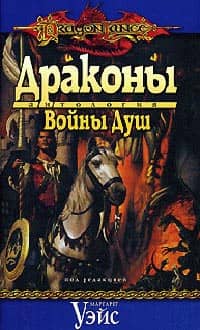 Грабб Джеф
Грабб Джеф