понимали".
пригрозил Розенбауму, что выставлю его из часовни, если ему взбредет в
голову произносить речь у гроба Кана, и он пообещал мне молчать. В последний
момент мне удалось уговорить хозяина "дома скорби" не ставить пластинок с
немецкими народными песнями. Он даже обиделся и заявил, что другие ничуть не
стали бы возражать против этого, скорее наоборот: песня вроде "Ужель
возможно это?" им наверняка бы понравилась.
пластинки после панихиды по Бетти и сделал на этом бизнес. После смерти
Моллера он стал специалистом по похоронам эмигрантов.
будет выглядеть чересчур бедно. [430]
убрать лавровые деревья у входа, и теперь хозяин уставился на меня так,
будто я вырывал последний кусок хлеба из его золотых зубов. Я просмотрел
ассортимент его пластинок и отобрал "Ave verum" Моцарта.
оставьте, пожалуй.
массажиста и одна массажистка, у которой на руках было только девять
пальцев, какая-то неизвестная старуха в слезах - вот и все. Старуху,
официанта, у которого раньше был магазин по продаже корсетов в Мюнхене, и
массажиста, торговавшего углем в Ротенбурге-на-Таубере, Кан спас во Франции,
уведя из-под носа у гестапо. У них никак не укладывалось в голове, что он
мертв. Кроме того, было еще несколько человек, которых я едва знал.
похожий на черную лягушку. Как завсегдатай похорон, он явился в визитке
цвета маренго и в полосатых брюках. Он был единственным среди нас, одетым
согласно траурному обряду, в своей визитке, оставшейся от прошлых времен. Он
встал перед гробом, широко расставив ноги, покосился на меня и раскрыл рот.
верх: он знал, что я не рискну устроить драку перед гробом Кана. Я хотел
выйти на улицу, но Равик снова толкнул меня.
Розенбауму открыть рот на его похоронах.
накладывалось на другое - [431] так, как одна на другую ложатся страницы, а
в результате получается книга. Месяцы нерешительности, надежд,
разочарований, бунтарства и тяжких снов накладывались друг на друга и без
каких-либо усилий с моей стороны превратились в твердую уверенность. Я знал,
что уеду. В этом уже не было никакого мелодраматизма - это было почти как
итог в бухгалтерской ведомости. Я не мог поступить по-другому. Я возвращался
даже не для того, чтобы обрести почву под ногами. Пока я этого не сделаю,
мне нигде не найти покоя. Иначе мысль о самоубийстве, отвращение к
собственной трусости и, самое ужасное, раскаяние останутся вечными
спутниками до конца моих дней. Я не мог не уехать. Я еще не знал, с чего
начну, но уже был убежден, что не буду связываться с судами, процессами,
требовать кары для виновных. Я имел представление о прежних судах и судьях в
стране, куда собирался вернуться. Они были послушными пособниками
правительства, и я не мог себе представить, что у них вдруг проснется
совесть, ничего общего не имеющая с оппортунистической возможностью
переметнуться на сторону тех, кто стоит у власти. Я мог рассчитывать только
на самого себя.
меня с сияющим лицом.
восстановление!
чтобы потом восстанавливать разрушенное. Или я рассуждаю неправильно?
восстанавливаем страну. Здесь заложены колоссальные возможности. Взять хотя
бы бизнес в строительстве.
тем не менее Гинденбург - один из тех, кто нес ответственность за это, -
стал президентом Германии.
повесят других или бросят их за решетку. Теперь нужно идти в ногу с эпохой.
- Он хитро подмигнул мне. - Поэтому вы ведь и пришли ко мне, а?
произнес я и почувствовал, как во мне загорается слабая надежда. Если
Фрислендер сейчас откажет, мне придется подождать, пока я наберу достаточно
денег, чтобы оплатить проезд. Это была отсрочка на короткое время, отсрочка
в стране, где теперь, когда я собирался ее покинуть, мне опять почудилось
слабое мерцание чужого рая.
получить деньги? Наличными или чек?
получите. А что касается выплаты, то время терпит. Вы хотите их
инвестировать, да?
сто. Это справедливо, не так ли?
был справедлив. Обычно люди прячутся за любимыми словечками, как в укрытии.
Я встал, чувствуя облегчение и в то же время полную безнадежность.
цветущий, преуспевающий бизнесмен, в окружении семьи, этакий столп ясного,
неколебимого [433] мира. Потом мне вспомнились слова Лиззи о том, что он
импотент. Я решил поверить в это хотя бы сейчас, чтобы преодолеть зависть.
и там наводим порядок. Сообщение с Европой от этого не пострадает. Ваши
документы теперь в порядке?
тоже.
Детали - это была не его стихия.
прочный мир.
месяцев, прежде чем дело сдвинулось с мертвой точки. Несмотря на все
трудности, это было самое приятное для меня время за долгие годы. Все
мучившее меня оставалось и даже, быть может, усугублялось; но переносить все
стало много легче, ибо теперь у меня появилась цель, перед которой я не
стоял в растерянности. Я принял решение, и мне с каждым днем становилось
яснее, что иного пути для меня нет. Вместе с тем я не пытался загадывать
наперед. Я должен вернуться, все прочее разрешится на месте. Я по-прежнему
видел сны. Они снились мне даже чаще, чем прежде, и были теперь еще
страшнее. Я видел себя в Брюсселе ползущим по шахте, которая все сужалась
[434] и сужалась, а я все полз, полз, пока с криком не проснулся. Передо
мной возникло лицо человека, который прятал меня и был за это арестован. На
протяжении нескольких лет это лицо являлось мне в моих неясных снах, будто
подернутое какой-то дымкой; казалось, жуткий страх, что я не перенесу этого,
мешал мне ясно вспомнить его черты. Теперь я вдруг четко увидел его лицо,
усталые глаза, морщинистый лоб и мягкие руки. Я проснулся в глубоком
волнении, но уже не в той крайней растерянности, не в том состоянии, близком
к самоубийству, как прежде. Я проснулся, исполненный горечи и жажды мщения,
но подавленности и всегдашнего чувства, будто меня переехал грузовик, не
было и в помине. Наоборот, я был предельно сосредоточен, и смутное сознание
того, что я еще жив и могу сам распорядиться своей жизнью, преисполняло меня
страстным нетерпением; это уже не было ощущение безнадежного конца, нет, это
было ощущение безнадежного начала. Безнадежного потому, что ничего и никого
нельзя было вернуть к жизни. Пытки, убийства, сожжения - все это было, и
ничего уже нельзя ни исправить, ни изменить. Но что-то изменить все же было



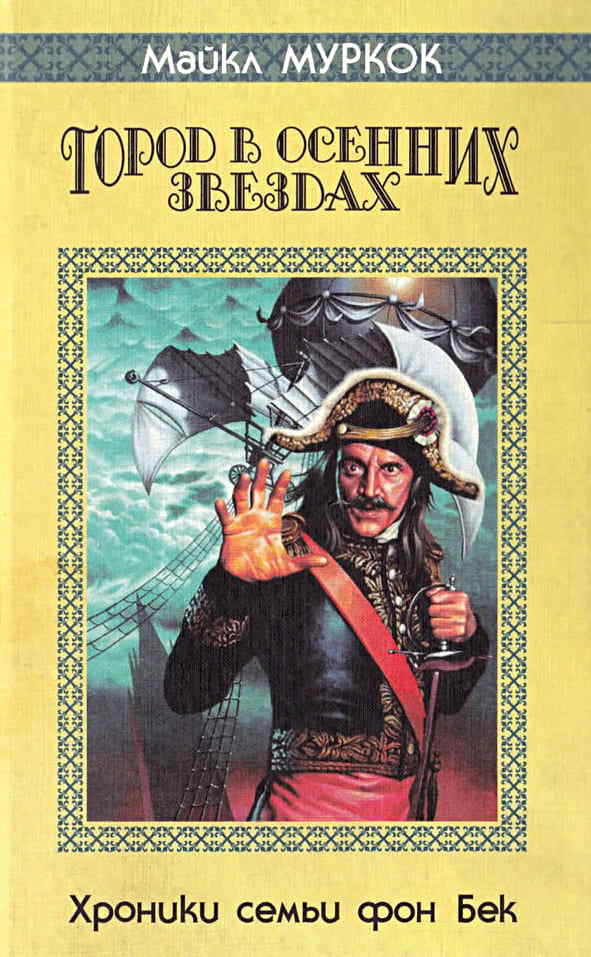
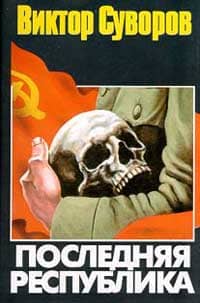

 Шилова Юлия
Шилова Юлия Максимов Альберт
Максимов Альберт Посняков Андрей
Посняков Андрей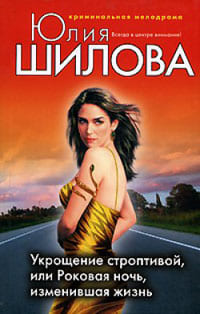 Шилова Юлия
Шилова Юлия Шилова Юлия
Шилова Юлия Ильин Андрей
Ильин Андрей