любая проститутка готова предложить мне кусочек продажной любви?
улыбнулась. - Он ведь совсем мальчишка. Боится, как бы я не стала утаивать
заработанные деньги. А с вас я денег не возьму.
деньгах... - Она снова запнулась. - Одним словом, когда я что-то чувствую...
столике.
вспомнила и захотела пойти со мной. Ты очаровательная девушка и нравишься
мне. Но я не могу спать с женщиной, если оперировал ее. Понимаешь?
денег Бобо.
по-прежнему.
кельнера...
сложенной газетой, она осклабилась, обнажив вставные челюсти.
бросила она на ходу. - Большое спасибо. Желаю удачи.
но воздух оставался неподвижным. Вход в Лувр был ярко освещен. Двери стояли
настежь. Он вошел в музей.
горел свет. Равик прошел мимо отдела древнеегипетского искусства,
напоминавшего гигантскую освещенную гробницу. Здесь стояли высеченные из
камня статуи фараонов, живших три тысячи лет назад. Их гранитные зрачки
глядели на слоняющихся студентов, женщин в старомодных шляпах и пожилых
скучающих мужчин. Здесь пахло пылью, мертвым воздухом и бессмертием.
девицы, нисколько на нее не похожие. Равик остановился. После гранита и
зеленоватого сиенита египтян мраморные скульптуры греков казались какими-то
декадентскими. Кроткая пышнотелая Венера чем-то напоминала безмятежную,
купающуюся домохозяйку. Она была красива и бездумна. Аполлон, победитель
Пифона, выглядел гомосексуалистом, которому не мешало бы подзаняться
гимнастикой. Греки были выставлены в закрытом помещении, и это их убивало.
Другое дело египтяне: их создавали для гробниц и храмов. Греки же нуждались
в солнце, воздухе и колоннадах, озаренных золотым светом Афин.
на него. И вдруг, высоко над всем воспарила Ника Самофракийская.
показалась ему какой-то жалкой и неприглядной: в окна музея сочился
грязноватый свет зимнего дня, и богиня победы как бы зябко поеживалась от
холода. Теперь же она стояла высоко над лестницей, на обломке мраморного
корабля, стояла в сиянии прожекторов, сверкающая, с широко распластанными
крыльями, готовая вот-вот взлететь. Развевающиеся на ветру одежды плотно
облегали ее устремленное вперед тело... И казалось, за спиной у нее шумит
виноцветное море Саламина, а над ним раскинулось темное бархатное небо,
полное ожидания.
проблемы. Она не испытывала бурь, бушующих в крови. Она знала лишь победу
или поражение, не видя между ними почти никакой разницы. Она не обольщала,
она манила. Она не реяла, она беспечно парила. У нее не было никаких тайн, и
все же она волновала куда сильнее, чем Венера, прикрывавшая свой стыд, чтобы
возбудить желание. Она была сродни птицам и кораблям - ветру, волнам,
горизонту. У нее не было отчизны.
любом корабле она чувствовала себя как дома. Ее стихией были мужество,
борьба и даже поражение: ведь она никогда не отчаивалась. Она была не только
богиней победы, но и богиней всех романтиков и скитальцев, богиней
эмигрантов, если только они не складывали оружия.
руках, разошлись по до---------------------------------------(1)
Путеводитель, выпущенный издательством "Бедекер" мам... Дом... У того, кто
отовсюду гоним, есть лишь один дом, одно пристанище - взволнованное сердце
другого человека. Да и то на короткое время. Не потому ли любовь, проникнув
в его душу - душу изгнанника, - так потрясла его, так безраздельно завладела
им? Ведь ничего, кроме любви, не осталось. Не потому ли он пытался бежать от
нее? И разве она не устремилась за ним, не настигла его и не повергла ниц?
На зыбкой почве чужбины куда труднее вновь встать на ноги, чем на родной
земле.
бабочка. Должно быть, она впорхнула в открытые двери, прилетела
откуда-нибудь с нагретых солнцем клумб Тюильрийского парка, где спала,
вдыхая аромат роз. Возможно, ее вспугнула какая-нибудь влюбленная парочка;
огни города - множество неведомых, пугающих солнц - ослепили ее, и она
попыталась укрыться в спасительном сумраке, за широкими входными дверями...
И вот теперь с бесстрашием отчаяния она кружит по огромному залу, где ее
ждет смерть... Бабочка быстро устанет и уснет на карнизе, на подоконнике или
на плече у богини, сияющей в вышине... Утром она полетит на поиски цветов,
золотистой пыльцы, жизни. Не найдя ничего и вконец обессилев, она снова
уснет, присев на тысячелетний мрамор, и проспит до тех пор, пока не ослабеют
ее нежные и цепкие лапки. Тогда она упадет - тонкий листок преждевременно
наступившей осени.
бабочка-беженка. Дешевая символика. Но что еще в жизни трогает так, как
дешевые символы, дешевые чувства, дешевая сентиментальность? В конце концов,
что сделало их дешевыми? Их бесспорная убедительность. Когда тебя хватают за
горло, от снобизма не остается и следа. Бабочка взлетела под самый купол и
исчезла в полумраке. Равик вышел из Лувра. Его обдало теплым воздухом улицы,
словно он погрузился в ванну. Он остановился. Дешевые чувства! А разве он
сам не стал жертвой самого дешевого из них?
сенью веков, и вдруг ему показалось, будто на него обрушился град кулачных
ударов. Он едва удержался на ногах. Ему все еще чудилась белая, всплеснувшая
крылами Ника, но за ее плечами из тьмы выплывало лицо женщины, дешевое и
бесценное, в котором его воображение запуталось, подобно тому как
запутывается индийская шаль в кусте роз, полном шипов; он дергает шаль, но
шипы держат ее; они крепко удерживают шелковые и золотые нити и так тесно
переплелись с ними, что глазу уже не различить, где тернистые ветви и где
мерцающая ткань.
тысячекратно повторено? Обо всем этом можно спрашивать, пока ты еще не
попался, но уж если попался, ничто тебе больше не поможет. Тебя держит сама
любовь, а не человек, случайно носящий ее имя. Ты ослеплен игрой
воображения, разве можешь ты судить и оценивать? Любовь не знает ни меры, ни
цены.
свинцовые облака. Предгрозье тысячью слепых глаз глядело в окна домов. Равик
шел вдоль улицы Риволи. За колоннами крытых галерей светились витрины. По
тротуару двигался поток людей. Один за другим проносились автомобили -
нескончаемая цепь вспыхивающих огней. Вот я иду, подумал Равик, один среди
тысяч таких же. Я медленно бреду мимо этих витрин, полных сверкающей мишуры
и драгоценностей. Я засунул руки в карманы и иду, и кто ни посмотрит на
меня, тот скажет, что я просто вышел на обычную вечернюю прогулку. Но кровь
во мне кипит, в серых и белых извилинах студенистой массы, именуемой мозгом,
- ее всего-то с две пригоршни, - бушует незримая битва, и вот вдруг -
реальное становится нереальным, а нереальное - реальным. Меня толкают
локтями и плечами, я чувствую на себе чужие взгляды, слышу гудки
автомобилей, голоса, слышу, как бурлит вокруг меня обыденная, налаженная
жизнь, я в центре этого водоворота - и все же более далек от него, чем
луна... Я на неведомой планете, где нет ни логики, ни неопровержимых фактов,
и какой-то голос во мне без устали выкрикивает одно и то же имя. Я знаю, что
дело не в имени, но голос все кричит и кричит, и ответом ему молчание... Так
было всегда. В этом молчании заглохло множество криков, и ни на один не
последовало ответа. Но крик не смолкает. Это ночной крик любви и смерти,
крик исступленности и изнемогающего сознания, крик джунглей и пустыни. Пусть
я знаю тысячу ответов, но не знаю единственного, который мне нужен, и не



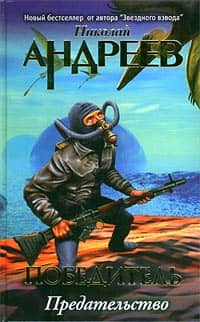


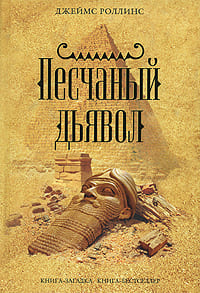 Роллинс Джеймс
Роллинс Джеймс Лукин Евгений
Лукин Евгений Акунин Борис
Акунин Борис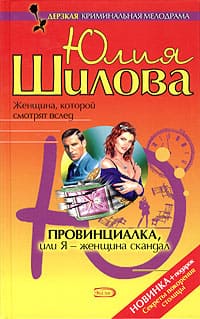 Шилова Юлия
Шилова Юлия Шилова Юлия
Шилова Юлия Орловский Гай Юлий
Орловский Гай Юлий