слоем земли, затем подогнал машину поближе. Тащить мертвое тело, очевидно,
будет нелегко. Все же он остановил машину там, где кончался твердый грунт, -
на мягком останутся следы от шин.
сбрасывая ее тут же в кучу. Сделать это оказалось проще, чем он думал.
Оставив голое тело, он взял одежду, запихнул в багажник и отвел автомобиль
на прежнее место. Потом запер дверцы и багажник на ключ и захватил с собой
молоток. Надо исключить всякую возможность опознания трупа, если его
случайно обнаружат.
захотелось бросить труп в лесу, сесть в машину и умчаться. Он остановился и
оглянулся. Неподалеку по стволу бука сновали две белки. Их рыжеватые шубки
сверкали на солнце. Он пошел дальше.
пропитанную машинным маслом, и стал бить по ней молотком, но после первого
же удара остановился. Звук показался ему слишком громким. Равик замер, но
тут же принялся быстро наносить удар за ударом. Через некоторое время он
приподнял тряпку. Лицо превратилось в какое-то месиво, затянутое пленкой из
свернувшейся черной крови. Совсем как голова Ризенфельда, подумал он,
стиснув зубы. Или нет, голова Ризенфельда была пострашнее - ведь тот еще
жил.
был длиннее, чем ему казалось. Пришлось подтянуть колени к животу. Потом он
засыпал яму землей. На это ушло совсем немного времени, он притоптал землю и
положил на нее дерн, который заранее срезал лопатой, перед тем, как выкопать
яму. Куски дерна плотно прилегали один к другому. Только пригнувшись совсем
низко, можно было заметить стыки. Он расправил кусты и выпрямился.
прямо на одежду. Потом не спеша возвратился, стараясь обнаружить следы. Их
почти не было. Пройдут дожди, подрастет трава, и через несколько дней все
будет как прежде.
меньшее удивление. Носки, сорочка, нижнее белье - все уже стало призрачным,
поблекшим, словно и они стали добычей смерти. Как омерзительно прикасаться
ко всему этому, отыскивать монограммы и фирменные этикетки.
нескольких километрах от места, где зарыл труп, - достаточно далеко, чтобы
предотвратить одновременное обнаружение тела и одежды.
срезанные с одежды, он завернул в бумагу. Затем разорвал в клочки записную
книжку Хааке и исследовал содержимое бумажника: две банкноты по тысяче
франков, билет до Берлина, десять марок, несколько записок с адресами и
паспорт. Французские банкноты Равик взял себе. В карманах одежды Хааке он
обнаружил еще несколько пятифранковых бумажек.
надпись: "До Берлина". Порвав билет, Равик присоединил обрывки ко всему
остальному. Паспорт Хааке он разглядывал довольно долго. Документ был
действителен еще три года. Трудно было устоять против искушения сохранить
его и пожить под новой фамилией. Это вполне соответствовало его теперешнему
образу жизни. Он не стал бы особенно колебаться, будь это абсолютно
безопасно.
квитанцию на сданный в багаж чемодан он сунул в карман. Может быть, чемодан
придется забрать, чтобы в Париже не осталось никаких следов. Счет за номер в
отеле он также разорвал.
предполагал, но очень пригодились предусмотрительно захваченные с собой
старые газеты. Пепел он бросил в ручей. Затем внимательно осмотрел машину -
не осталось ли где следов крови. Нигде ни пятнышка. Тщательно обмыв молоток
и гаечный ключ, он снова уложил инструменты в багажник. Затем вымыл руки,
достал сигарету и, присев на подножку, закурил.
курил. Он был совершенно опустошен и ни о чем не думал.
Белый дворец сиял в блеске летнего утра, под вечным небом восемнадцатого
века. Он вдруг вспомнил Сибиллу и впервые за все эти годы перестал
сопротивляться мыслям о ней, отгонять и подавлять их. Воспоминания всегда
обрывались на той минуте, когда Хааке приказал ввести ее. Последнее, что он
запомнил, был ужас, безумный страх в ее глазах. Все остальное тонуло в этом.
Еще помнилось, как сообщили о том, что она повесилась. Он никогда этому не
верил, хотя самоубийство было возможно, вполне вероятно - кто знает, что
предшествовало ему... Никогда он не мог думать о Сибилле, не испытывая при
этом мучительных спазмов в мозгу. И тогда его пальцы словно превращались в
скрюченные когти, судорога сковывала грудь, сознание надолго заволакивалось
кровавым туманом, и всего его охватывала бессильная жажда мести.
растворилось, рухнула баррикада, недвижный образ, воплотивший в себе
отчаяние многих лет, внезапно ожил и постепенно начал оттаивать.
Искривленные губы сомкнулись, взгляд утратил оцепенелость, кровь стала
медленно приливать к белому как мел лицу. Застывшей маски ужаса как не
бывало, вновь появилась Сибилла, та самая, которую он знал, которая была с
ним, чью нежную грудь он ласкал, с которой он прожил два года, и они были
словно теплый июньский вечер, овеваемый легким ветерком.
за горизонтом посыпались искры. Заклинившаяся, наглухо запертая, покрытая
запекшейся кровью дверь в его прошлое внезапно отворилась, легко и бесшумно,
и за ней снова раскинулся цветущий сад, а не застенок гестапо.
Остановившись на мосту через Сену за Сен-Жерменом, он бросил в воду ключи и
револьвер Хааке. Затем опустил верх машины и поехал дальше.
прошли десятки лет. Случившееся несколько часов назад стало для него
нереальным, а то, что казалось ему давным-давно потонувшим в памяти,
загадочно всплывало на поверхность, надвигалось все ближе и не было больше
отделено от него пропастью. Равик не понимал, что с ним происходит. Он
ожидал всего - опустошенности, усталости, равнодушия, отвращения, он думал,
что попытается оправдать себя, напьется до потери сознания, он ждал чего
угодно, но только не этого ощущения легкости и освобождения, словно с его
прошлого упал какой-то тяжкий груз. Он смотрел по сторонам. Мимо него
скользил пейзаж. Вереницы тополей, ликуя, тянулись ввысь своими зелеными
факелами; в полях буйно цвели маки и васильки; из пекарен в маленьких
деревушках пахло свежеиспеченным хлебом; в школе под аккомпанемент скрипки
пели дети.
недавно, несколько часов назад. С тех пор прошла целая вечность. Куда
девалась стеклянная стена, словно отгородившая его от всего окружающего? Она
исчезла, как исчезает туман под лучами восходящего солнца. Он снова видел
детей, играющих перед домами, кошек и собак, дремлющих на солнце, лошадей на
пастбище, а на лугу все так же стояла женщина с прищепками в руке и
развешивала белье. Он смотрел - и острее, чем когда-либо, ощущал себя частью
всего этого. Что-то мягкое и влажное таяло в нем, наполняя его жизнью.
Выжженное поле зазеленело вновь, и что-то в нем медленно отступило назад.
Утраченное равновесие восстанавливалось.
вспугнуть возникшее чувство. А оно росло и росло, оно словно искрилось и
играло в душе; он сидел тихо, еще не осознав происходящего во всей его
полноте, но уже ощущая и зная - избавление пришло. Он думал, что тень Хааке
будет неотступно преследовать его. Но рядом с ним как бы сидела только его
собственная жизнь, она вернулась и глядела на него. Долгие годы ему все
мерещились широко раскрытые глаза Сибиллы. Безмолвно и неумолимо они
обвиняли и требовали. Теперь они закрылись, горестные складки в углах рта
разгладились, руки, простертые в ужасе, наконец опустились. Смерть Хааке
сорвала застывшую маску смерти с лица Сибиллы - на мгновение оно ожило и
затем стало расплываться. Теперь Сибилла обретет покой, теперь ее образ
уйдет в прошлое и никогда больше не вернется. Тополя и липы бережно примут и
похоронят ее... А вокруг все еще лето и жужжание пчел... И какая-то
прозрачная, не изведанная им доселе усталость - словно он не спал много
ночей подряд и теперь будет спать очень долго или никогда уже не уснет...
машины и только тогда по-настоящему почувствовал, до чего он устал. Это была
уже не та расслабленная усталость, которую он ощущал во время поездки, а
какое-то тупое и непреодолимое желание спать, спать - и больше ничего. Едва
передвигая ноги, он направился в "Энтернасьональ". Солнце немилосердно
палило, голова налилась свинцом. Неожиданно Равик вспомнил, что еще не сдал
свой номер в отеле "Принц Уэльский". Он был так утомлен, что с минуту
раздумывал - не сделать ли это позже. Затем, пересилив себя, взял такси и
поехал в "Принц Уэльский". Уплатив по счету, он едва не забыл сказать, чтобы
ему вынесли чемодан.
человек и пили "мартини". Дожидаясь носильщика, он едва не заснул. Дав ему
на чай, он вышел и сел в такси.
слышно швейцару и носильщику.


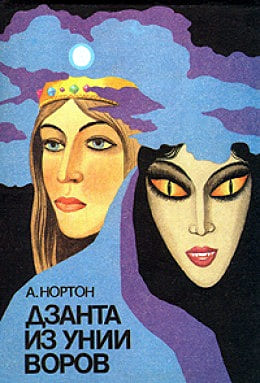



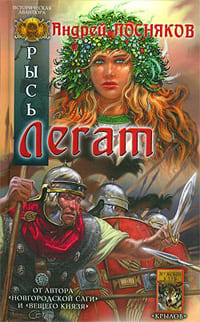 Посняков Андрей
Посняков Андрей Ковальчук Вера
Ковальчук Вера Каменистый Артем
Каменистый Артем Никитин Юрий
Никитин Юрий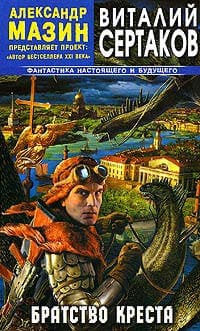 Сертаков Виталий
Сертаков Виталий Земляной Андрей
Земляной Андрей