совершенно игнорировать новую ситуацию. Бегство - дело не столь безопасное;
правда, можно благополучно скрыться, но зато получить такой нервный шок, что
станешь импотентом. Я знаю об этом от одного ефрейтора, которого младший
фельдфебель саперных войск застал в лесу с кухаркой, - этот ефрейтор на всю
жизнь лишился мужской силы, и жена через два года с ним развелась.
взоры на наше окно, единственное, которое освещено - оно светилось и раньше,
- остаются на месте, точно их изваял Курт Бах. Теперь они - воплощенная
невинность, правда немного смешная, как, впрочем, и скульптуры Курта Баха. И
тут облако начисто стирает луну, эта часть сада погружается во мрак, и
освещенным остается только обелиск. Но что там за блещущий фонтан? Поливая
обелиск, стоит Кнопф, подобный брюссельской статуе, которую знает каждый
солдат, ездивший в отпуск в Бельгию.
и не такое настроение. Почему я должен реагировать, как домашняя хозяйка?
Сегодня я решил уехать из этих мест и поэтому ощущаю поток жизни с удвоенной
силой, я чувствую ее во всем: в запахе свежих опилок и в лунном свете, в
шорохе и скольжении парочек, в невыразимо волнующем слове "сентябрь", в моих
пальцах, которые шевелятся, готовые схватить эту жизнь, в моих глазах, без
которых все музеи мира опустели бы, в призраках, привидениях и во всем
преходящем, в отчаянном беге земли, несущейся мимо Кассиопеи и Плеяд, в
предчувствии бесконечных неведомых садов под неведомыми звездами, а также
важных должностей в больших неведомых газетах, в предчувствии рубинов,
сейчас срастающихся под землей в пунцовое сияние. Я ощущаю эту жизнь и
потому не могу запустить пустой пивной бутылкой в фельдфебеля Кнопфа,
извергающего тридцатисекундный фонтан...
можем называть Вильке на "вы", пьянствовать дальше или опуститься в сон, как
в горную шахту, в которой есть уголь, трупы, белые дворцы из соли и скрытые
в земле алмазы.
которых дети живьем насаживают на булавки.
вытянувшись, словно оцепенев.
смотрят теперь в мою сторону, настороженные, очень темные.
я здесь. Она медленно отделяется от стены.
Хотели меня поймать. Они проведали, что я здесь.
худенькая и одинокая в этой пустой комнате. Она даже лишена общества самой
себя. Она даже не может остаться наедине со своим "я"; разорванная, точно
граната, на множество острых осколков страха, среди чуждого и угрожающего
ландшафта, полного неуловимых угроз.
причиняло такой боли.
это тупое, медленное перепиливание! И все опять снова срастается, оттого что
пилят слишком медленно! А тогда они начинают сначала, и это продолжается без
конца. Они распиливают тело, а оно все время срастается, и так без конца.
руки между коленями.
силком вернуть меня в себя. И распиливает, распиливает. А он держит меня. -
Изабелла содрогается: - Тот, который в ней...
имитирующее беспечную жизнь, кажется в пустой комнате особенно неуместным.
вместе со мной? Все я одна должна делать. А я так устала, - жалуется Так
жжет, и я не могу она, словно птичка. спать, и я так устала. Но разве
можно спать, когда так жжет и никто с тобой не бодрствует? Вот и ты меня
покинул.
Голубые деревья и серебряный дождь. Но ты не захотел. Ни разу! А ты мог бы
меня спасти!
чтобы оно дрожало, но оно дрожит, дрожит, и мне чудится, будто комната уже
не стоит спокойно на месте, будто дрожат стены, они состоят уже не из
кирпичей, извести и штукатурки, а из сконцентрированных колебаний биллионов
нитей, которые бегут от горизонта до горизонта и за него и только здесь
уплотнились в четырехугольную тюремную камеру, сплетенную из веревок для
виселиц и петель повешенных, а в них барахтается какой-то несчастный комочек
тоски и страха перед жизнью.
Они затягивают его почти незримой серой вуалью. Мир еще остается таким же,
каким был, - свет в саду, зелень и желтизна аллей, две пальмы в больших
майоликовых вазонах, небо с полями облаков, за селом - далекий город с
пестротою серых и красных крыш, - но все уже другое, сумерки изолировали
каждый предмет, покрыли его лаком преходящего, как хозяйка заправляет
уксусом тушеное мясо, и подготовили для ночных теней, которые, подобно
волкам, сожрут его. Осталась только Изабелла, вцепившаяся в последний канат
света, но и она уже втянута им в драму вечера, хотя он никогда не был драмой
и становится ею для нас лишь потому, что он знаменует собой исчезновение, и
мы это знаем. Но с тех пор, как мы узнали, что должны умереть, и потому, что
мы это узнали, идиллия превратилась в драму, круг - в копье,
становление - в исчезновение, крик - в страх, бегство - в приговор.
прижимается ко мне, а я обнимаю ее, мы обнимаем друг друга - двое чужих
людей, которые ничего не знают друг о друге и обнялись потому, что не
понимают друг друга, и один видит в другом не того, кем тот является на
самом деле; и все-таки они черпают утешение даже из этого непонимания,
двойного, тройного, бесконечного; и все-таки это единственное, что, подобно
радуге, кажется мостом там, где никакого моста не может быть и где есть лишь
отражение друг в друге двух зеркал, многократно повторяющееся и уходящее в
пустоту все более отступающей дали.
их.
аметистовыми волнами легко встают с равнины и из аллей. Все в душе очерчено
резко и ясно, и вместе с тем мне чудится, что я стою на узкой площадке,
поднятой очень высоко над бормочущей бездной.
меня, словно в них кроется какая-то более глубокая правда, чем я могу
понять, точно она лежит по ту сторону вещей, где уже не существует имен и
названий.
моему плечу. - Каждую ночь все умирает. Сердце тоже. Они распиливают его.
другой день оно снова тут. Ах, это не лицо! Как мы лжем нашими убогими
лицами! Ты тоже лжешь!




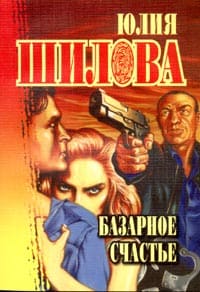
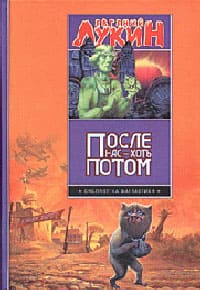
 Куликов Роман
Куликов Роман Каменистый Артем
Каменистый Артем Буркатовский Сергей
Буркатовский Сергей Афанасьев Роман
Афанасьев Роман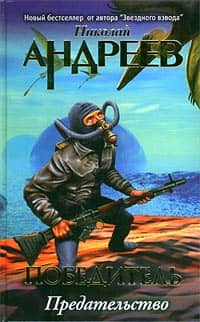 Андреев Николай
Андреев Николай Земляной Андрей
Земляной Андрей