на веру. Ты, Олечка, попала в свободный мир. Здесь нет идолов,
которым нужно обязательно поклоняться. Вот немцы двенадцать
лет слепо поклонялись своему идолу и орали во всю мочь: Хайль
Гитлер! А что из этого получилось? Одни неприятности. И для
них... и для всего мира. В Америке спокойно живут миллионы
людей... которые ничему не поклоняются... если отбросить
деньги и комфорт. И один из них такой вот маленький человек по
имени Олечка. Клянись своим именем.
поклоняться, во что-то верить свято. Иначе вся его жизнь
сведется к тому, чтобы набить себе брюхо морожеными
продуктами.
жизни. И святыни, которые вызывают священный трепет. Иначе ты
- никто. Ноль без палочки.
были святыни, при виде которых у меня замирало сердце от
волнения и гордости.
древние зубчатые стены Кремля, на его башни, на пряничные
купола церквей, на черный гранитный Мавзолей, где похоронен
Ленин, я испытывала какое-то особое чувство. Не знаю, как его
назвать. Патриотизм? Не совсем точно. Любовь? Восторг?
простаивающих чуть ли не весь день, чтоб посмотреть на Ленина
в стеклянном гробу. А приехали эти люди за тысячи километров.
Что привело их всех, сюда? Чей-то приказ? Неверно. Они пришли
сами. На лицах - торжественность и благоговение. Возможно, это
и есть патриотизм.
семьи, которая была и моей. А вместе мы с гордостью смотрели,
как сменяется караул у входа в Мавзолей, на стройных и
красивых солдат, молодецки печатавших шаг.
Мне от этого грустно. Может быть, я - ненормальная и навек
испорчена советским воспитанием. Но мне неинтересно жить, не
имея святынь. Любя лишь себя.
гордится тем, что ничему не поклоняется. Скоро эти свободные
от всего люди начнут справлять естественные нужды прямо на
улице, на глазах у остальных, как это делают собаки в
Нью-Йорке.
Москве чистые тротуары, ни бумаг, ни окурков, ни собачьего
дерьма. А по краю тротуаров не громоздятся горы мешков и
картонных ящиков с мусором. По московским улицам приятно
ходить. Когда гуляешь по Нью-Йорку, ощущаешь, будто ходишь по
большой свалке.
что к чему в этом мире. Спрашивать у взрослых - пустое дело.
Они сами ошарашены и не знают, на какую ягодицу сесть.
уикэнд. Город мне не понравился. После Вены и Рима разве может
какой-нибудь город удивить?
Америки - Белому дому. Мне очень хотелось снова испытать то
чувство, которое меня охватывало в Москве на Красной площади.
Мне очень хотелось найти в моей новой стране что-нибудь, что
взволнует сердце, заставит его биться учащенно.
меня, а, наоборот, умилило. Я даже ощутила легкий приступ того
самого чувства, которое охватывало меня перед Кремлем. Но
чувство, так и не созрев, вдруг испарилось. Оно уступило место
отвращению и душевной пустоте.
звездно-полосатого флага на белом тонком флагштоке,
расположился на садовой скамье грязный оборванец. Опухший от
пьянства негр, одетый в лохмотья, из-под которых высовывались
его босые, в струпьях ноги, храпел, пуская пузыри, на скамье,
а вокруг валялись пустые банки из-под пива.
иностранных туристов, на полицейских, в смущении обходивших
его. Потому что в этой стране он свободен плевать на все. И
мне в душу тоже.
храни ее. Сама она себя растащит по кускам.
положил мне свою руку на плечо. Мама тоже стояла растерянная.
мама. - И изобилие всего, чего душа попросит.
протянул Б.С. слова известной в СССР песни. - И при этом в
России нечего жрать и надо держать язык за зубами.
Б.С. и почему-то ко мне тоже. - Вы - максималисты.
же я хочу?
что на весь мир радио и телевидение трогательно оповещают о
том, что у него приступ геморроя. Когда он потом появляется на
экране телевизора, я смотрю не на его постоянно улыбающееся
лицо, а на, извините за выражение, его жопу и думаю о том, что
у него там внутри нарыв, и как он стонет и морщится, когда
какает у себя в Белом доме. Небось, тогда вечная улыбка
исчезает с его лица и остаются холодные и злые глаза. Похожие
на волчьи. Я поэтому и не пытаюсь рисовать его портрет, потому
что знаю, что получится.
бедняга, не шевелил вставной челюстью, когда выступает с
речью. Жутко смотреть. Кажется, вот-вот выронит ее на трибуну,
и она со звоном ударится о графин с водой. Неужели не могут в
СССР придумать что-нибудь получше для своего вождя вместо этой
кошмарной челюсти. Ведь там запускают ракеты на луну, а до
такой мелочи не додумаются.
денег у парикмахеров, чтоб распрямить свои кудрявые колечки на
голове и хотят иметь волосы такие же прямые, как у белых? Они
ведь белых не любят. Зачем они хотят быть похожими на них?
и под наркозом на операционном столе укорачивают свои
библейские носы?
волшебные раскосые глаза сделать круглыми, как у кошек?
не посылают ее, Америку, к чертовой матери и не уплывают в
Африку на свою историческую родину, где все - черные, и они со
своей американской хваткой и знаниями ценились бы на вес
золота?
"в будущем году в Иерусалиме" и ни в будущем, и ни в каком
другом году туда не поедут? А если поедут, то туристами. Пока
не дождутся погромов. Но тогда уже будет поздно.
бабушка Сима непременно стала бы отпаивать меня валерианкой. В
Нью-Йорке этих капель нет, и мама заказала, чтоб ей прислали
из Москвы.
выводит меня попастись. Подышать свежим воздухом. Если воздух
в Нью-Йорке можно назвать свежим.
потом дома. Там, где я живу, у меня нет друзей, моих
сверстников. Поэтому выйти на улицу поиграть мне не с кем. И
боязно. Здесь шныряют мальчишки бандитского вида. Те, что с
темной кожей. Неграми их называть сейчас не принято. И
пуэрториканцы. Чуть посветлей. Но ни капельки не лучше.
застреленных, зарезанных. Аж в глазах рябит. И изнасилованных.
Это страшнее всего. Я вся покрываюсь гусиной кожей, когда
слышу об этом. Если б случилось такое несчастье со мной, я бы
жить не стала. Удавилась бы.
изнасилованную, а потом зарезанную. И совершили это жуткое,
чудовищное преступление два подростка. Чуть постарше меня. Они
нагло улыбались с экрана телевизора, когда полиция их уводила
в наручниках. И на их мордах орангутангов не было ни капли
раскаяния. Между прочим, те, что бегают с воплями мимо наших
окон, похожи на них, как братья.



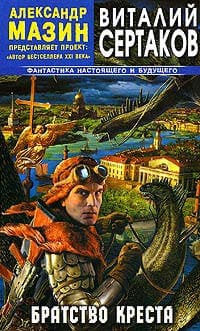
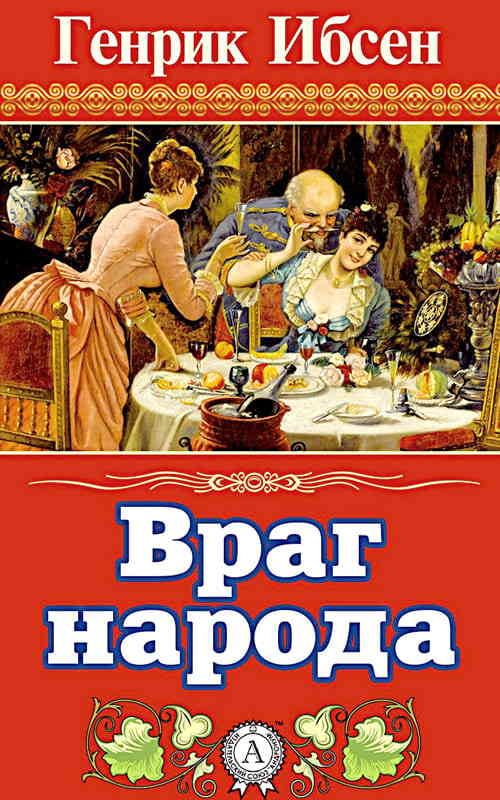

 Флинт Эрик
Флинт Эрик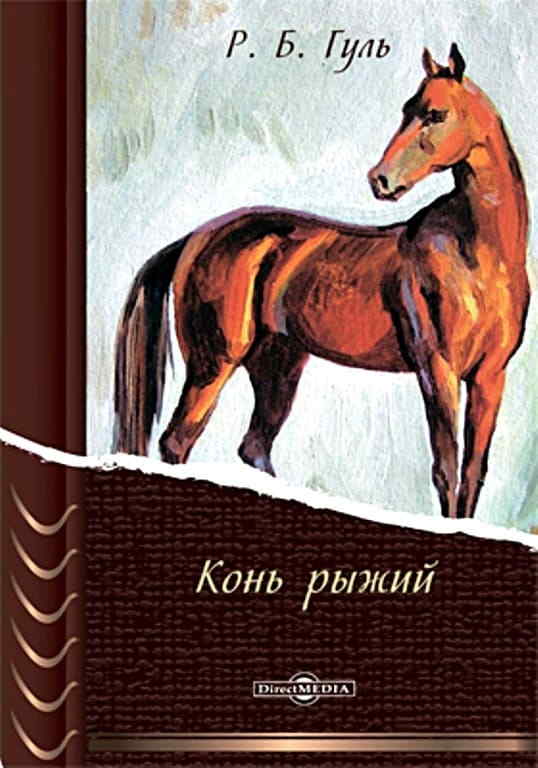 Гуль Роман Борисович
Гуль Роман Борисович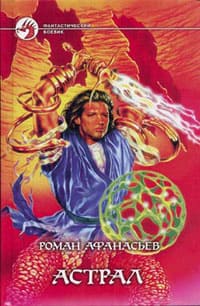 Афанасьев Роман
Афанасьев Роман Березин Федор
Березин Федор Свержин Владимир
Свержин Владимир Флинт Эрик
Флинт Эрик