Эфраим Севела.
Продай твою мать
вместе.
забывать о катастрофе европейского еврейства. Дочь литовки и
еврея, плод смешанного брака, я, по еврейским законам,
еврейкой не считалась, ибо эти законы национальность
определяют только по материнской линии. Ты привез меня в
государство Израиль, которое ты сам, и, я полагаю, искренне,
называл своей исторической родиной. Здесь я окончательно стала
еврейкой, признав эту страну своим единственным отечеством, и
служу в Армии обороны Израиля, добровольно несу нелегкий крест
женщины-солдата, чтобы по мере своих сил защитить ее от
бесчисленных врагов.
войны, чудом, действительно чудом ускользнувший из гетто, из
рук фашистского палача, ты вырос сиротой среди чужих тебе
людей, литовцев, большой любовью к евреям тоже не пылавших,
унижаемый и преследуемый за свое еврейское происхождение
русскими коммунистами. И наконец, получив возможность
вырваться к своим, к себе подобным, в единственное государство
на земле, где если тебя назовут грязным евреем, то имеют в
виду всего лишь, что тебе нужно пойти умыться, ты
дезертировал, бросил это государство, нуждавшееся в тебе не
меньше, чем ты в нем, и на брюхе, ужом, вполз к своим бывшим
мучителям, униженно умолив их не побрезговать и считать тебя
своим.
признающей только черное и белое и лишенной золотой середины.
Называй как хочешь. Моя душа корчится и плачет. И я хочу,
чтобы ты, отец, услышал этот плач.
истинный. Бессмысленное занятие. Ты старше меня и опытней. У
каждого из нас сложилось свое представление об этом мире. Но я
хочу, чтобы ты хоть, по крайней мере, знал, как я к этому
отношусь.
прибегают сюда зализывать свои раны, другие, очухавшись здесь
и окрепнув, снова бегут в галут.
маленькую, хрупкую и одинокую, никем не любимую, еще одного
солдата и работника. А ведь у нас каждый еврей воистину на вес
золота. Мы, всего-навсего три миллиона, противостоим ста
миллионам прямых врагов, жаждущих нашей гибели и делающих для
этого все, что в их силах, и всему миру, который, я уверена,
облегченно вздохнет, когда с нами наконец будет покончено, и в
лучшем случае прольет по этому поводу для сохранения
благопристойности две-три неискренние слезы.
создания вот уже тридцать лет находится в состоянии войны, и
каждый день нашего независимого государственного существования
оплачиваем кровью. Еврейской кровью, которой и так осталось
мало на земле.
страну и покинувший ее еврей - это дополнительный удар по
нашим незаживающим ранам. Это - наше горе, наш стыд, наша
большая беда.
каким бы ты ни был. Даже в твоем падении. Даже дезертиром. У
меня нет никого, кроме тебя, мать не в счет, она - за железным
занавесом, кто мне близок и дорог и при воспоминании о ком на
мои глаза навертываются слезы и сердце заливает волна теплоты
и нежности.
жжет и терзает мою душу, потому что я рискую тебя кровно
обидеть и потерять навсегда. Пойми, как мне нелегко, прояви
терпимость и выслушай мой стон, не озлобясь и не отринув меня.
в неволе, больную мать, друзей и, наконец, народ, Литву,
которой я принадлежу половиной своей крови. Потом ты бросил
меня, полуеврейку, в государстве евреев, одном из самых
неуютных на земле, и уехал устраивать свою жизнь туда, где,
как тебе кажется, фортуна улыбается обольстительней и
безопасней.
Израиле. И бросил в беде сам Израиль, твое государство, на
попечение других, и в том числе мое.
захотела ехать. Правильно. И меня не увез в Европу, потому что
я наотрез отказалась следовать за тобой. Тоже верно.
больной совестью, которая, я знаю, в тебе еще не умерла и
вынуждает тебя молча страдать.
непристойный шаг, стыдясь друзей и знакомых, и, осев
где-нибудь на планете, никогда недобрым словом его не помянут,
и, слушая радио, ловят в новостях в первую очередь сообщения
из Израиля. Они как свой личный успех воспринимают весть
оттуда.
государство, и в местах нового проживания будут зло и едко
высмеивать его, публично поносить, и аборигены тех мест будут
смотреть на них с чувством неловкости, которое испытывают даже
антисемиты при виде еврея, рассказывающего на потеху чужим
ушам грязные юдофобские анекдоты. Но и такие, я не сомневаюсь,
услышав по радио слово "Израиль", вздрагивают и напрягают
слух, и по сразу меняющемуся выражению лица становится ясно,
что судьба Израиля им все же важнее всех других новостей.
поселяются, жмутся к своим соплеменникам, в особенности если
те сносно болтают по-русски или по-польски, одним словом, на
языке страны исхода.
мере, не совершают национальной измены.
брезгливостью. Это те, кто, позарившись на сладкий пирог,
припали к стопам народа, принесшего самые большие страдания
евреям. К немцам. Лижут сапоги своим недавним палачам или же
их потомству. И считают себя счастливчиками, когда, после
унизительных процедур, взяток и ложных клятв, им наконец не
без брезгливости вручают немецкий паспорт, в котором они
отныне черным по белому именуются немцами. Не немецкими
евреями, а немцами.
живут, они вынуждены скрывать от соседей свое еврейское
происхождение и то же самое проделывать на работе, каждый раз
с тревогой ожидая опознания. При откровенной семитской
внешности и неистребимом еврейском акценте их немецкий язык
напоминает в лучшем случае ломаный идиш.
на жирной земле, удобренной пеплом своих соплеменников,
которых одно поколение тому назад их немецкие сограждане
выкорчевали полностью, выжгли каленым железом, развеяли дымом
печей крематориев.
человеческого достоинства?
Германия к себе легально евреев, желающих там остаться, не
впускает. За взятку в пятьсот долларов тебя перевезли через
границу со взятым напрокат чужим паспортом. Где ты пересек
границу? На стыке с Австрией? Или в Итальянских Альпах?
сиденье "мерседеса", надвинув шляпу на глаза, или, еще лучше,
прикрыв их солнечными темными очками. хоть стояла глубокая
ночь. Как тебя бил озноб, когда немецкие пограничники почти в
той же самой униформе, что и солдаты вермахта, охранявшие
каунасское гетто, проверяли твои липовые документы и
подозрительно косились на твой еврейский нос, который даже
полями шляпы не прикроешь. И ты слышал ту же речь, что должна
жечь твой слух памятью об окриках часовых за проволочными
ограждениями гетто.





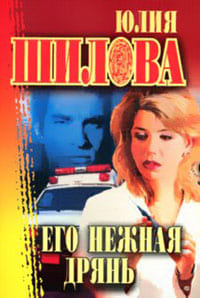
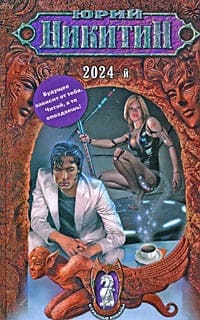 Никитин Юрий
Никитин Юрий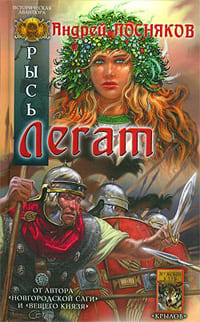 Посняков Андрей
Посняков Андрей Сертаков Виталий
Сертаков Виталий Сапковский Анджей
Сапковский Анджей Марко Джон
Марко Джон Березин Федор
Березин Федор