ли он благодарен майору за то, что тот одним мановением руки
спас его от несомненной гибели? Конечно был. И на лице его
отразилась биологическая радость существа, которому даровали
жизнь. Резкая перемена в его судьбе, в один миг извлекшая его
с самого дна, куда он рухнул без всякой надежды выбраться,
выползти наверх, к свету, к солнцу, к жизни, так и распирала
его бурным ликованием, граничившим с безумием.
Алоизаса не светилась, а сверкала ненависть униженного,
загнанного зверя к своему мучителю. Он был не в силах
подавить, пригасить это чувство, рвавшееся из его нутра. И
нацелена эта ненависть была на майора Таратуту, его спасителя,
на молодых карьеристов из городского комитета комсомола,
только что дружно топивших его, а теперь озадаченных и
растерянных, но не смеющих возразить начальству, на всех, кто
присутствовал в комендатуре в этот час и был свидетелем самых
страшных минут в жизни Алоизаса, о которых он до конца своих
дней будет вспоминать с содроганием. Не обошла его ненависть и
меня, человека совершенно постороннего, очутившегося в
комендатуре случайно, по прихоти майора Таратуты.
Карьерист, интриган, демагог. Увидавший в новой власти, под
метелку снявшей с Литвы верхний слой, всю верхушку нации, ее
элиту, верный шанс выскочить наверх, на вакантные теплые
места, с помощью чужих штыков сесть на шею своему
порабощенному народу. И он добился своего.
потесниться своих недавних судей. Видать, он был талантливее
их, ловчее, и они не успели оглянуться, как он обошел их, стал
партийным руководителем города, а через какое-то время
перебрался в столицу Литвы Вильнюс, в аппарат Центрального
комитета партии. Там он тоже не засиделся на одном месте и
добрался до самой вершины пирамиды, стал одним из вершителей
судеб Литвы.
отыгрался на тех, кто его унижал и топтал. Одного за другим он
убрал всех, кого злой рок привел в тот день в кабинет
коменданта города Каунаса. Все эти члены городского комитета
комсомола, что так измывались над ним, коленопреклоненным,
исчезли со своих постов, до которых они успели с той поры
дотянуться, и вообще куда-то испарились. Я больше их никогда
не встречал. Даже упоминания их имен.
комендантом. Григорий Иванович пил. Как и почти все
начальство. Особого греха в этом никто не видел. Майор питал
чрезмерную склонность к слабому полу. Так кто же из мужчин,
наделенных властью, безгрешен? Кто устоял перед соблазном
положить под бочок смазливую секретаршу или аппетитную
просительницу, готовую на все?
своей безалаберности и, я бы сказал, доверчивости не заметал
следов, не убирал опасных свидетелей. Гражина, его послушная
соучастница в любовных проказах, которой он щедро открыл путь
наверх, к вершинам власти, нанесла ему самый точный и
неспортивный удар - ниже пояса. К тому времени она со
свойственным ей звериным чутьем уловила, на чьей стороне сила,
и стала послушным орудием в руках Алоизаса. Гражина дала
свидетельские показания против майора. Она не рассказала все,
что знала. Боже упаси! Иначе бы и ей не выйти из воды сухой.
Ни слова о томах сочинений Ленина и Сталина, на которых, как
на подстилке, отдавалась она коменданту. Больше того - она ему
не отдавалась. А лишь была объектом его гнусных приставаний,
чуть ли не попыток изнасиловать в своем служебном кабинете.
Только ее коммунистическая стойкость и моральная чистота
помогли ей отбить этот натиск вечно пьяного самца с партийным
билетом в кармане.
из партии уже не человек, а ноль. Его снимают с работы и не
дают никакой другой. Он становится абсолютно бесправным и
гонимым. Он остается один-одинешенек, от него, как от чумы,
шарахаются недавние знакомые и подхалимы.
него ушла жена, выбросив на порог старый чемодан с его личными
вещами. Он остался на улице без гроша в кармане.
отказался, не объяснив почему. Единственный вид помощи,
который он согласился принять, - это стаканчик водки, который
ему подносил по моей просьбе официант, когда он иногда
появлялся в нашем ресторане.
в зал бочком, с застенчивой улыбкой под седыми усами. Он сразу
поседел весь. Голова стала серебряной с редкой прочернью. Усы
тоже. Лишь брови оставались жгуче черными, и под ними еще
больше выделялись голубизной его глаза. Ушедшие глубоко под
набухшие веки. Как у затравленного зверя.
дыра, когда он размыкал губы. Лицо сморщилось, съежилось, и
вместо прежней холодной усмешки теперь на нем возникала жалкая
улыбка.
погон военный костюм, сапоги со сбитыми каблуками и отставшей
подошвой, которую он стягивал куском проволоки.
появление в зале. Его уже, конечно, не пугались, а, наоборот,
отводили душу, встречая громким хохотом. Он проходил между
столиками, гордо неся седую, все еще красивую голову и
высокомерно не замечая ни наглых усмешек, ни злых шуточек,
отпускаемых ему вслед.
Как и тогда, когда он был всесилен и внезапно появлялся у нас.
Одни лишь евреи-музыканты сохранили остатки почтения к
поверженному льву. Они вопросительно оглядывались на меня, и я
с аккордеоном выходил вперед к микрофону.
улыбался мне. Я растягивал меха, и в зал лилась любимая песня
былого коменданта. Оркестр играл старательно, как на
похоронах. По дряблым щекам Григория Ивановича текли слезы, и
он их не вытирал.
конечно) полный до краев стакан водки. Майор принимал стакан с
достоинством, хрипло изрекая:
шевелюру.
Вслед ему неслись едкие шуточки и смешки подвыпивших офицеров,
по-прежнему составлявших большинство нашей публики.
пускать, и наш швейцар стал загораживать перед ним вход, когда
он появлялся. Таратута обиделся и перестал приходить.
после смерти Сталина была снова переименована и уже носила имя
другого вождя. Мы останавливались и болтали, как старые
приятели, словно никаких перемен не произошло. На прощание я
смущенно совал ему в карман несколько смятых червонцев, и он
смущенно кряхтел, делая вид, что не замечает.
он тоже не оставил в покое. Не сам, а через своих холуев. Меня
уволили из оркестра. Я долго нигде не находил другой работы и
кормился только заработками жены. Потом мне удалось устроиться
в другой ресторан, в "Метрополис". Взяли лишь потому, что
остались без аккордеониста и никак не могли найти ему замены.
посетитель не мог проникнуть. Там гуляли лишь именитые гости.
И в старой Литве, и нынче, при советской власти. На стене
этого зала висели в дубовых резных рамах портреты трех великих
князей в железных шлемах, кольчугах и латах, основателей
литовской державы, некогда доходившей своей восточной границей
почти до самой Москвы. Зал так и назывался: "Три князя".
бульдожьем лице позвал наш метрдотель, велев прихватить
аккордеон. Под дубовыми рамами один за огромным столом ужинал
Алоизас. Располневший и заметно постаревший с той поры, как я
видел его на коленях в кабинете коменданта города. Он жевал
мокрыми губами, то и дело вытирая их смятой в кулаке
салфеткой.
почтительно пятясь задом, покинул зал и плотно притворил за



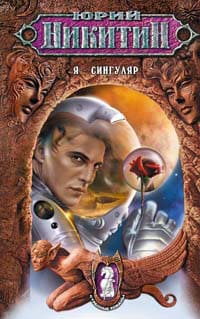


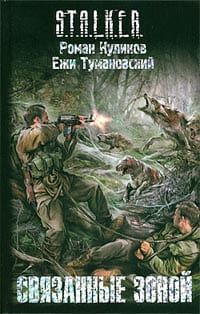 Куликов Роман
Куликов Роман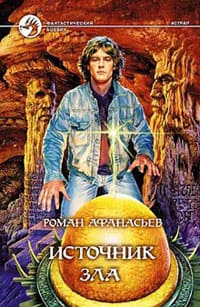 Афанасьев Роман
Афанасьев Роман Андреев Николай
Андреев Николай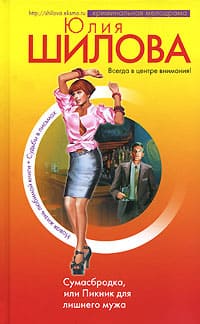 Шилова Юлия
Шилова Юлия Лондон Джек
Лондон Джек Херберт Фрэнк
Херберт Фрэнк