подпрыгивала короткая винтовка с темным, почти синим
металлическим затвором.
отвести взгляда, и при этом меня немножко подташнивало. Мы
ведь не знали тогда, что нас везут, чтобы вытянуть, высосать
всю нашу кровь. Я был уверен, что нас везут на Девятый форт и
там перестреляют как цыплят.
деревянный приклад и думал, как думают о самых простых вещах,
что из этой самой винтовки Антанас убьет меня и в
металлическом затворе лежит себе спокойно свинцовая пуля с
болезненно-острым кончиком, ничем не отличающаяся от других
пуль. С одним лишь отличием, что в ней притаилась моя смерть.
И еще одна пуля лежит в оттопыренном кармане суконного кителя
Антанаса. Как сестра похожая на мою. Это пуля Лии. Мы с Лией
брат и сестра, и наши пули тоже родственники. Их даже,
возможно, отлили из одного "куска свинца.
от размышлений. И смотрел на широкую суконную спину Антанаса,
на рыжие завитки волос на его белокожем, в веснушках затылке.
солдат, маленького роста, сидел в кабине, рядом с шофером, а
здоровенный Антанас протирал себе зад на остром краю
автомобильного борта. Отчего, конечно, злится и сорвет свою
злость на нас.
был завернут вверх, на крышу фургона, и мне было видно, как
убегают назад маленькие грязные домики Вилиямполе - еврейского
гетто, последнего пристанища нашей семьи и всех каунасских
евреев. Мы еще не выехали за ворота гетто, когда автомобиль
остановился. По поперечной улице ползла вереница телег - я
слышал цокот конских копыт и скрежет железных ободьев колес о
булыжники мостовой.
до рези в ушах, слышал знакомый голос, привычную напевную
скороговорку. Она разговаривала с Антанасом. Мама,
единственная из всех матерей, не осталась плакать и причитать
в своей опустевшей комнатке, а побежала к воротам и
подстерегла наш грузовик.
я сохранила. Чистый бриллиант. Старинной бельгийской шлифовки.
Здесь три карата, Антанас.
небольшого роста, и за бортом грузовика ее не было видно.
Двумя пальцами мама держала тоненькую серебряную цепочку, на
которой покачивался, нестерпимо сверкая гранями, выпуклый
бриллиант в матовой серебряной оправе. Я знал его. Мама одева-
ла его на шею, когда мы ожидали гостей и когда они с папой
собирались в театр.
бриллиант на ладонь, покачал на ладони, словно пробовал его на
вес.
понятно, что мама хочет выкупить нас с сестренкой. Как она
сумела спрятать тот бриллиант во время обысков, одному Богу
известно. Я был уверен, что у нас ничего, не осталось. Когда
совсем нечего было есть и маленькая Лия - мамина любимица -
хныкала от голода, а этого бриллианта хватило бы и на хлеб и
на молоко, мама и виду не подавала, что она утаила бриллиант.
Его она хранила на черный день. На самый-самый черный. Потому
что какие могут быть светлые дни в гетто, где каждый день лишь
приближал тебя к неминуемой смерти.
оставили пока жить, но забирали детей. И тогда мама достала из
тайника свою последнюю надежду - бриллиант в три карата,
фамильную ценность, доставшуюся ей в наследство от матери, а
до того, как я помнил из семейных разговоров, он висел на шее
у маминой бабушки, то есть моей прабабушки, которой я даже на
фотографиях не видел, потому что в пору ее жизни не был
изобретен фотоаппарат. Но убивать невинных женщин уже
научились. Прабабушку, насколько я понял из маминых
объяснений, убили в Польше, с которой Литва тогда составляла
одно государство, во время очередного погрома.
мамина рука, словно рука нищенки, просящей подаяние,
подрагивала в воздухе над краем борта. Я даже видел, как
шевелятся ее пальцы.
обстоятельства, лихорадочно размышлял я. Первое: Антанасу
должен приглянуться бриллиант. Второе: чтобы грузовик не
тронулся с места раньше, чем Антанас примет окончательное
решение. А решение это означало: жить нам с Лией или нет.
меня от этого засвербело в носу.
в кабине грузовика, сказала мать.
если бы и услышали, ничего бы не поняли.
откликнулась, громко, навзрыд заплакав.
ручищей по детским головенкам, мгновенно притихшим. Так шарит
продавец арбузов по огромной куче, выбирая самый спелый. Рука
Антанаса доползла до Лии, и, как только коснулась ее, девочка
умолкла. Антанас ухватил ее, как цыпленка, за узенькую спинку
и вытащил из-под чужих рук и ног. Затем поднял в воздух под
брезентовую крышу кузова, и Лия, в синем с белыми ромашками
платьице и в сандалиях на тоненьких ножках закачалась над
другими детскими головками, как маленькая акробатка в цирке.
Волосы были заплетены в две косички и стянуты ленточкой,
которую сделала мама, отрезав полоску от своего старого
платья. Мама каждое утро заплетала Лии косы. И в это утро
тоже.
Лии сверху было видно маму, и я ожидал, что она закричит,
потянется к ней, забьется в руке у Антанаса. Но Лия молчала.
Ее маленький детский умишко чуял нависшую опасность и закрыл
ей рот. Она молчала, раскачиваясь, как котенок, схваченный за
шиворот, и смотрела неотрывно на маму, и даже улыбалась ей.
Честное слово, мне это не померещилось. Лия улыбалась. Ее рот
был открыт, и два передних верхних зуба, выпавших незадолго до
того, зияли смешной старушечьей пустотой на детском личике.
одну побрякушку?
последнее, что имела.
другим детям. - Будет поздно. Девку возьмешь или парня?
его ударов скрипели доски автомобильного борта.
что если маме оставят только такой выбор, она, конечно,
возьмет Лию. И потому, что Лия - девочка, и потому, что Лия -
меньше меня. И еще по одной причине.
гадким утенком. Некрасивым и зловредным. Меня даже стыдились
и, когда приходили гости, старались побыстрее спровадить в
спальню, чтобы не мозолил глаза.
она была одета лучше большинства детей нашей и соседних улиц
на Зеленой горе. Даже детей из семейств намного богаче нашего
так не одевали.
дешевых магазинах и намного больших размеров, чем мне
полагалось. На вырост. И поэтому я напоминал карлика в пальто
почти до пят и с болтающимися концами рукавов. Это пальто я
носил до тех пор, пока рукава мне становились короткими, почти
по локоть, а само пальто скорее напоминало куртку. Выбрасывали
его лишь тогда, когда оно настолько становилось тесно в
плечах, что было больно натягивать его, а застегнуть на
пуговицы никак не удавалось, сколько меня ни тискали и ни
сдавливали.



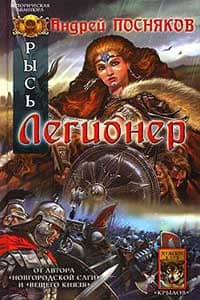


 Лукин Евгений
Лукин Евгений Шилова Юлия
Шилова Юлия Глуховский Дмитрий
Глуховский Дмитрий Афанасьев Роман
Афанасьев Роман Контровский Владимир
Контровский Владимир Самойлова Елена
Самойлова Елена