физик. Консерваторец Володя Клемпнер, композитор. Дровосек и охотник вятских
лесов, дремучий как лесное озеро. Православный проповедник из Европы Евгений
Иванович Дивнич. Он не остается в рамках богословия, он поносит марксизм,
объявляет, что в Европе уже давно никто не принимает такого учения всерьёз
-- и я выступаю на защиту, ведь я марксист. Еще год назад как уверенно я б
его бил цитатами, как бы я над ним уничижительно насмехался! Но этот первый
арестантский год наслоился во мне -- когда это произошло? я не заметил --
сколькими новыми событиями, видами и значениями, что я уже не могу говорить:
их нет! это буржуазная ложь! Теперь я должен признавать: да, они есть. И тут
сразу же слабеет цепь моих доводов и меня бьют почти шутя.
прекращается второй год. И опять русские эмигранты -- из Европы и из
Манчжурии. С эмигрантами ищут знакомых так: из какой вы страны? а такого-то
знаете? Конечно, знает. (Тут я узнаю о расстреле полковника Ясевича.)
которого в Восточной Пруссии я когда-то заставлял нести мой чемодан. О, как
тесен мир!.. Надо ж было нам увидеться! Старик улыбается мне. Он тоже узнал
и даже как будто рад встрече. Он простил мне. Срок ему десять лет, но жить
осталось меньше гораздо... И еще другой немец -- долговязый, молодой, но
оттого ли что по-русски ни слова не знает -- безответный. Его и за немца не
сразу признаешь: немецкое с него содрали блатные, дали на сменку вылинявшую
советскую гимнастерку. Он -- знаменитый немецкий асс. Первая его компания
была -- война Боливии с Парагваем, вторая -- испанская, третья -- польская,
четвертая -- над Англией, пятая -- Кипр, шестая -- Советский Союз. Поскольку
он -- асс, не мог же он не расстреливать с воздуха женщин и детей! --
военный преступник, 10 лет и 5 намордника. -- И, конечно, есть на камеру
один благомысл (вроде прокурора Кретова): "Правильно вас всех посадили,
сволочи, контрреволюционеры! История перемелет ваши кости, на удобрение
пойдете!" "И ты же, собака, на удобрение!" -- кричат ему. "Нет, мое дело
пересмотрят, я осужден невинно!" Камера воет, бурлит. Седовласый учитель
русского языка, встаёт на нарах, босой, и как новоявленный Христос
простирает руки: "Дети мои помиримся!.. Дети мои!" Воют и ему: "В Брянском
лесу твои дети! Ничьи мы уже не дети! Только -- сыновья ГУЛага..."
зажигались изнурительные лампы под потолком. День разделяет арестантов, ночь
сближает. По вечерам споров не было, устраивались лекции или концерты. И тут
опять блистал Тимофеев-Рессовский: целые вечера посвящал он Италии, Дании,
Норвегии, Швеции. Эмигранты рассказывали о Балканах, о Франции. Кто-то читал
лекцию о Корбюзье, кто-то -- о нравах пчел, кто-то -- о Гоголе. Тут и курили
во все легкие! Дым заполнял камеру, колебался как туман, в окно не было тяги
из-за намордника. Выходил к столу Костя Киула, мой сверстник, круглолицый,
голубоглазый, даже нескладно смешной, и читал свои стихи, сложенные в
тюрьме. Его голос переламывался от волнения. Стихи были: "Первая передача",
"Жене", "Сыну". Когда в тюрьме ловишь на слух стихи, написанные в тюрьме же,
ты не думаешь о том, отступил ли автор от силлабо-тонической системы и
кончаются ли строки ассонансами или полными рифмами. Эти стихи -- кровь
ТВОЕГО сердца, слёзы ТВОЕЙ жены. В камере плакали. *(2)
Есенина, почти запрещенного до войны. Молодой Бубнов -- из пленников, а
прежде кажется, недоучившийся студент, смотрел на чтецов молитвенно, по лицу
разливалось сияние. Он не был специалистом, он ехал не из лагеря, а в лагерь
и скорее всего -- по чистоте и прямоте своего характера -- чтобы там
умереть, такие там не живут. И эти вечера в 75-й камере были для него и для
других -- в затормозившемся смертном сползании внезапный образ того
прекрасного мира, который есть и -- будет, но в котором ни годика, ни
молодого годика не давала им пожить лихая судьба.
войны, учась в двух ВУЗах сразу, еще зарабатывая репетированием и порываясь
писать -- кажется и тогда не переживал я таких полных, разрывающих, таких
загруженных дней, как в 75-й камере в то лето...
Деуля, мальчика, в шестнадцать лет получившего [пятерку] (только не
школьную) за "антисоветскую агитацию"...
Николай Владимирович был всё время на [общих]...
Теперь он лежит в больнице, и от Четвертого Спецотдела *(3) ему выдают
сливочное масло, даже вино, но встанет ли он на ноги -- сказать трудно.
Караганды заняться налаживанием нашего института на земле отечества.
сорванное с мест и заключённое в ящики, приехало и без нас.
Шуберта!
темные намордники и светлые верхушки окон):
при порочной церковной службе. Тюремные церкви закрыты. Правда, сохранились
их здания, но они удачно приспособлены под расширение самих тюрем. В
Бутырской церкви помещается таким образом лишних две тысячи человек, -- а за
год пройдет и лишних пятьдесят тысяч, если на каждую партию класть по две
недели.
обомкнутым тюремными корпусами, в предназначенную мне камеру, даже обходя
надзирателя на плечо (так лошадь без кнута и вожжей спешит домой, где ждет
её овес) -- я иной раз и забуду оглянуться на квадратную церковь,
переходящую в осьмерик. Она стоит особо посреди квадратного двора. Её
намордники совсем не техничны, не стеклоарматурны, как в основной тюрьме --
это посеревший подгнивающий тес, указывающий на второстепенность здания. Там
как бы внутрибутырская пересылка для свежеосужденных.
приговора ОСО нас ввели в церковь (самое время! не худо бы и помолиться!),
взвели на второй этаж (там нагорожен был и третий) и из осьмигранного
вестибюля растолкали по разным камерам. Меня впустили в юго-восточную.
двести человек. Спали, как всюду, на нарах (они одноэтажные там), под нарами
и просто в проходах, на плитчатом полу. Не только намордники на окнах были
второстепенные, но и всё содержалось здесь как бы не для сынов, а для
пасынков Бутырок: в эту копошащуюся массу не давали ни книг, ни шахмат и
шашек, а алюминиевые миски и щербленные битые деревянные ложки от еды до еды
забирали тоже, опасаясь как бы их не увезли впопыхах этапов. Даже кружек и
тех жалели для пасынков, а мыли миски после баланды и из них же лакали
чайную бурду. Отсутствие своей посуды в камере особенно разило тех, кому
падало счастье-несчастье получить передачу от родных (а в эти последние дни
перед далеким этапом родные на скудеющие средства старались обязательно
что-то передать). Родственники сами не имели тюремного образования, и в
приёмной тюрьмы никакого доброго совета они не могли бы получить никогда.
Поэтому они не слали пластмассовой посуды, единственной дозволенной
арестанту, но -- стеклянную или железную. Через кормушку камеры все эти
мёды, варенья, сгущенное молоко безжалостно выливались и выскребались из
банок в то, что есть у арестантов, а в церковной камере у него ничего нет,
значит просто в ладони, в рот, в носовой платок, в полу одежды -- по ГУЛагу
вполне нормально, но для центра Москвы? И при всём том -- "скорей, скорей!"
-- торопил надзиратель, как будто к поезду опаздывал (а торопил потому, что
и сам еще рассчитывал облизать отбираемые банки). В церковных камерах всё
было временное, лишенное и той иллюзии постоянства, какая была в камерах
следственных и ожидающих суда. Перемолотое мясо, полуфабрикат для ГУЛага,
арестантов держали здесь те неизбежные дни, пока на Красной Пресне не
освобождалось для них немного места. Единственная была здесь льгота --
ходить самим трижды в день за баландою (здесь не было в день ни каши, но
баланда -- трижды, и это милосердно, потому что чаще, горячей, и тяжелей в
желудке). Льготу эту дали потому, что в церкви не было лифтов
тяжелые большие баки издалека, через двор, и потом взносить по крутой
лестнице, это было очень трудно, сил мало, а ходили охотно -- только бы
выйти лишний раз в зелёный двор и услышать пение птиц.
предсквозняков будущих пересылок, от предветра полярных лагерей. В церковных
камерах шел обряд привыкания -- к тому, что приговор свершился и нисколько
не в шутку; к тому, что как ни жестока твоя новая пора жизни, но мозг должен
переработаться и принять её. Это трудно давалось.
отчего те становятся как бы подобием семьи. Денно и нощно здесь вводили и
выводили единицами и десятками, от этого всё время передвигались по полу и
по нарам, и редко с каким соседом приходилось лежать дольше двух суток.
Встретив интересного человека, надо было расспрашивать его не откладывая,
иначе упустишь на всю жизнь.


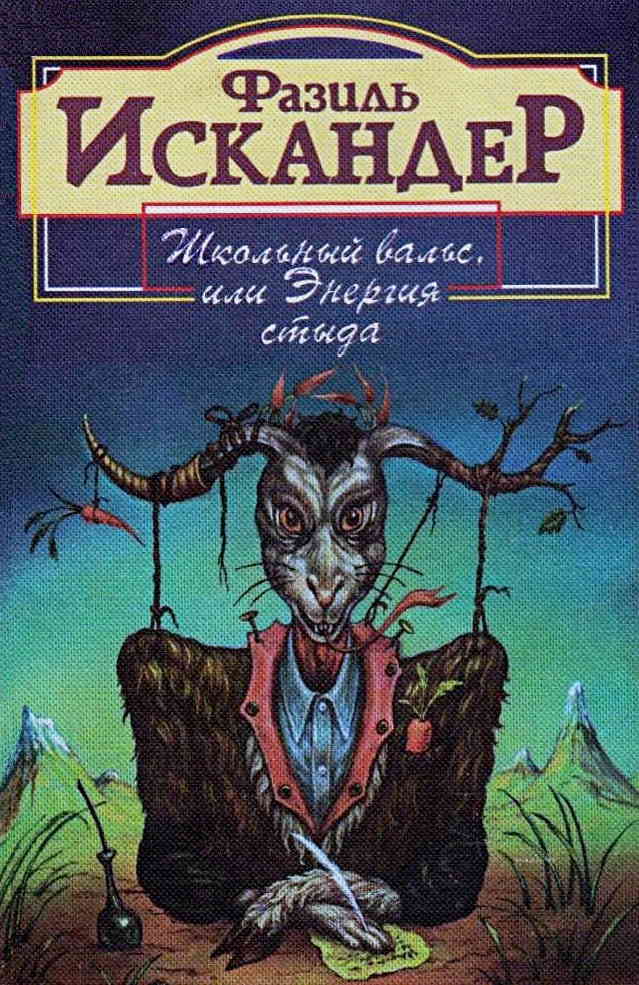



 Флинт Эрик
Флинт Эрик Никитин Юрий
Никитин Юрий Лукин Евгений
Лукин Евгений Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий Сертаков Виталий
Сертаков Виталий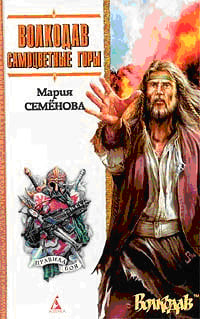 Семенова Мария
Семенова Мария