видят и вдыхают. Да только ли защита от мужчин? и только ли малолетки
растравлены? -- а женщины, которые рядом изо дня в день всё это видят, но их
самих не спрашивают мужчины -- ведь эти женщины тоже взрываются наконец в
неуправляемом чувстве -- и бросаются бить удачливых соседок.
болезни. Уже слух, что почти половина женщин больна, но выхода нет, и всё
туда же, через тот же порог тянутся властители и просители. И только
осмотрительные, вроде баяниста К., имеющего связи в санчасти, всякий раз для
себя и для друзей сверяются с тайным списком венерических, чтобы не
ошибиться.
нарасхват и наразрыв. Там не попадайся женщина на трассе -- хоть конвоиру,
хоть вольному, хоть заключенному. На Колыме родилось выражение [трамвай] для
группового изнасилования. К. О. рассказывает, как шофер проиграл в карты их
-- целую грузовую машину женщин, этапируемых в Эльген -- и, свернув с
дороги, завез на ночь расконвоированным, стройрабочим.
какая-то работа полегче. Но если вся бригада женская -- тут уж пощады не
будет, тут давай [кубики!] А бывают сплошь женские целые лагпункты, уж тут
женщины и лесорубы, и землекопы, и саманщицы. Только на медные и
вольфрамовые рудники женщин не назначали. Вот "29-я точка" КарЛага --
сколько ж в этой [точке] женщин? Не много не мало -- шесть тысяч! *(3) Кем
же работать там женщине? Елена О. работает грузчиком -- она таскает мешки по
80 и даже по 100 килограммов! -- правда наваливать на плечи ей помогают, да
и в молодости она была гимнасткой. (Все свои 10 лет проработала грузчиком и
Елена Прокофьевна Чеботарева.)
вечный мат, вечный бой и озорство, иначе не проживешь. (Но, замечает
бесконвойный инженер Пустовер-Прохоров, взятые с такой женской колонны в
прислугу или на приличную работу женщины тут же оказываются тихими и
трудолюбивыми. Он наблюдал такие колонны на БАМе, вторых сибирских путях, в
1930-е годы. Вот картинка: в жаркий день триста женщин просили конвой
разрешить им искупаться в обводнённом овраге. Конвой не разрешил. Тогда
женщины с единодушием все разделись донага и легли загорать -- возле самой
магистрали, на виду у проходящих поездов. Пока шли поезда местные,
советские, то была не беда, но ожидался международный экспресс, и в нем
иностранцы. Женщины не поддавались командам одеться. Тогда вызвали пожарную
машину и спугнули их брандсбойтом.)
разрабатывать участок карьера, обрушивают туда перекрытие (его перед
разработкой стелят по поверхности земли). Теперь надо поднять метров на
10-12 тяжелые сырые бревна из большой ямы. Как это сделать? Читатель скажет:
механизировать. Конечно. Женская бригада набрасывает два каната (их
серединами) на два конца бревна, и двумя рядами бурлаков (равняясь, чтобы не
вывалить бревно и не начинать с начала) вытягивают одну сторону каждого
каната и так -- бревно. А потом они вдвадцатером берут одно такое бревно на
плечи и под командный мат отъявленной своей бригадирши несут бревнище на
новое место и сваливают там. Вы скажете -- трактор? Да помилуйте, откуда
трактор, если это 1948 год? Вы скажете -- кран? А вы забыли Вышинского --
"труд-чародей, который из небытия и ничтожества превращает людей в героев"?
Если кран -- так как же с чародеем? Если кран -- эти женщины так и погрязнут
в ничтожестве!
постоянное или в месяц раз, перестает быть. Если она дотянет до ближней
комиссовки, то разденется перед врачами уже совсем не та, на которую
облизывались придурки в банном коридоре: она стала безвозрастна; плечи её
выступают острыми углами, груди повисли иссохшими мешочками; избыточные
складки кожи морщатся на плоских ягодицах, над коленями так мало плоти, что
образовался просвет, куда овечья голова пройдет и даже футбольный мяч; голос
погрубел, охрип, а на лицо уже находит загар пеллагры. (А за несколько
месяцев лесоповала, говорит гинеколог, опущение и выпадение более важного
органа.)
выпадало не всем одинаково безнадежно. И чем моложе, тем иногда легче. Так и
вижу девятнадцатилетнюю Напольную, всю как сбитую, с румянцем во всю
деревенскую щеку. В лагерьке на Калужской заставе она была крановщицей на
башенном кране. Как обезьяна лазила к себе на кран, иногда без надобности и
на стрелу, оттуда всему строительству кричала "хо-го-о-о!", из кабины
перекрикивалась с вольным прорабом, с десятниками, телефона у нее не было.
Всё ей было как будто забавно, весело, лагерь не в лагерь, хоть в комсомол
вступай. С каким-то не лагерным добродушием она улыбалась всем. Ей всегда
было выписано 140%, самая высокая в лагере пайка, и никакой враг ей не был
страшен (ну, кроме [кума]) -- её прораб не дал бы в обиду. Одного только не
знаю -- как ей удалось в лагере обучиться на крановщицу -- вот бескорыстно
ли её сюда приняли. Впрочем, она сидела по безобидной бытовой статье. Силы
так и пышели из нее, а завоеванное положение позволяло ей любить не по
нужде, а по влечению сердца.
в сельхозколонию, где, впрочем, всегда сытней и потому легче. "С песней я
бегала от жатки к жатке, училась вязать снопы". Если нет другой молодости,
кроме лагерной -- значит, надо веселиться здесь, а где же? Потом её привезли
в тундру под Норильск, так и он ей "показался каким-то сказочным городом,
приснившимся в детстве". Отбыв срок, она осталась там вольнонаемной. "Помню,
я шла в пургу, и у меня появилось какое-то задорное настроение, я шла,
размахивая руками, борясь с пургой, пела "Легко на сердце от песни веселой",
глядела на переливающиеся занавеси Северного сияния, бросалась на снег и
смотрела в высоту. Хотелось запеть, чтоб услышал Норильск: что не меня пять
лет победили, а я их, что кончились эти проволоки, нары и конвой.. Хотелось
любить! Хотелось что-нибудь сделать для людей, чтобы больше не было зла на
земле".
самой ей повезло: ведь не пяти лет, а пяти недель довольно, чтоб уничтожить
и женщину и человека.
бессовестных.
посадили тебя (по политической статье!) [пятнадцати лет], восьмиклассницей,
как Нину Перегуд? Как не полюбить джазиста-красавца Василия Козьмина,
которым еще недавно на воле весь город восхищался, и в ореоле славы он
казался тебе недоступен? И Нина пишет стих "Ветка белой сирени", а он кладет
на музыку и поет ей через зону (их уже разделили, он снова недоступен).
-- признак, что -- в лагерном браке, но может быть -- и в любви?
любви. Всесоюзный Указ от 8.7.44 об укреплении брачных уз сопровождался
негласным Постановлением СНК и инструкцией НКЮ от 27.11.44, где говорилось,
что суд обязан по первому желанию вольного советского человека
беспрекословно расторгать его с половиной, оказавшейся в заключении (или в
сумасшедшем доме), и поощрить даже тем, что освободить от платы сумм при
выдаче разводного свидетельства. (И никто при этом законодательно не
обязывался сообщать той, другой, половине о произошедшем разводе!) Тем самым
гражданки и граждане призывались поскорее бросать в беде своих заключённых
мужей и жен, а заключённые -- забывать поглуше о супружестве. Уже не только
глупо и несоциалистично, но становилось противозаконно женщине тосковать по
отлученному мужу, если он остался на воле. У Зои Якушевой, севшей за мужа
как ЧС, получилось так: года через три мужа освободили как важного
специалиста, и он не поставил непременным условием освобождение жены. Все
свои [восемь] она и оттянула за него...)
любовный разгул как диверсию против производственного плана. Ведь,
разбредясь по производству, эти бессовестные женщины, забывшие свой долг
перед государством и Архипелагом, готовы были лечь на спину где угодно -- на
сырой земле, на дровяной щепе, на щебенке, на шлаке, на железных стружках --
а план срывался! а пятилетка топталась на месте! а премии гулаговским
начальникам не шли! Кроме того некоторые из зэчек таили гнусный замысел
забеременеть, и под эту беременность, пользуясь гуманностью наших законов,
урвать несколько месяцев из своего срока, иногда короткого пятилетнего или
трехлетнего, и эти месяцы не работать. Потому инструкции ГУЛага требовали:
уличенных в сожительстве немедленно разлучать и менее ценного из них
отсылать этапом. (Это, конечно, ничуть не напоминало Салтычих, отсылавших
девок в дальние деревни.)
гражданин надзиратель мог бы храпануть в дежурке, он должен был ходить с
фонарем и ловить этих голоногих наглых баб в койках мужского барака и
мужиков в бараках женских. Не говоря уже о возможных собственных вожделениях
(ведь и гражданин надзиратель тоже не каменный), он должен был еще трудиться
отводить виновную в карцер или целую ночь увещевать её, объясняя, чем её
поведение дурно, а потом и писать докладные (что' при отсутствии высшего
образования даже мучительно).
в семье, в материнстве, в дружеском окружении, в привычной и может быть
интересной работе, кто и в искусстве, и в книгах, а тут давимые страхом,
голодом, забытостью и зверством, -- к чему ж еще могли повернуться
лагерницы, если не к любви? Благословением божьим возникала любовь почти уже
и не плотская потому что в кустах стыдно, в бараке при всех невозможно, да и
мужчина не всегда в силе, да и лагерный надзор изо всякой [заначки]
(уединения) таскает и сажает в карцер. Но от бесплотности, вспоминают теперь
женщины, еще глубже становилась духовность лагерной любви. Именно от


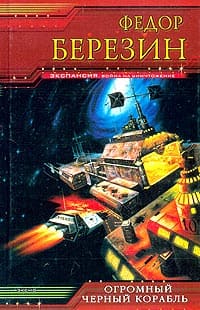



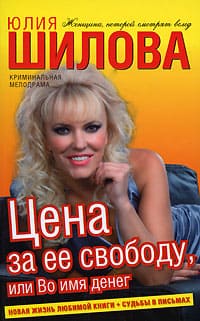 Шилова Юлия
Шилова Юлия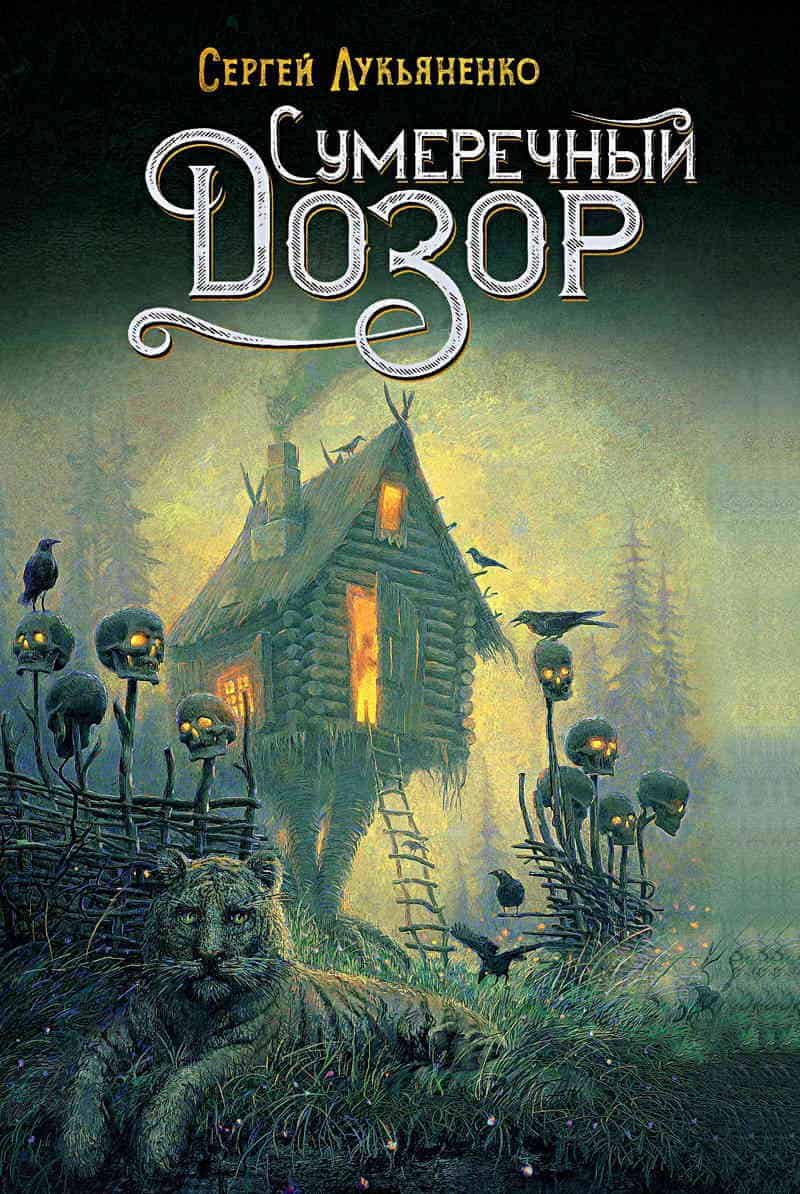 Лукьяненко Сергей
Лукьяненко Сергей Шилова Юлия
Шилова Юлия Конан-Дойль Артур
Конан-Дойль Артур Пехов Алексей
Пехов Алексей Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий