как бы для укрепления культмассовой работы, а на самом деле -- чтобы самому
сочинять. Зато был у него всегда ключ к лагерной сцене, и после отбоя он там
играл при свече (электричество выключали). Однажды он так играл, записывал
свою новую сонату, и вздрогнул от голоса сзади:
свечу майор, начальник лагеря, старый чекист -- и за ним росла его
гигантская чёрная тень. Теперь-то понял майор, зачем этот обманщик выписал
рояль. Он подошел, взял нотную запись и молча, мрачно стал жечь на свече.
зубы майор.
ошибся: эта соната действительно писалась о лагерях. *(5)
заключённых делать подписей и сочинять частушки -- тоже про нарушителей
дисциплины.
своего они не могут сработать ничего ощутимого, полезного, в руки взять.
никогда.
могли достичь -- нам никогда уже не вынести суждения. Никто не расскажет нам
о тетрадках, поспешно сожженных перед этапом, о готовых отрывках и о больших
замыслах, носимых в головах и вместе с головами сброшенных в мёрзлый общий
могильник. Еще стихи читаются губами к уху, еще запоминаются и передаются
они или память о них, -- но прозу не рассказывают прежде времени, ей выжить
трудней, она слишком крупна, негибка, слишком связана с бумагой, чтобы
пройти ей превратности Архипелага. Кто может в лагере решиться [писать?] Вот
А. Белинков написал -- и досталось куму, а ему -- 25 лет рикошетом. Вот М.
И. Калинина, никакая не писательница, всё же в записную книжку записывала
примечательное из лагерной жизни: "авось, кому-нибудь пригодится". Но --
попало к оперу. А её -- в карцер (и дешево еще отделалась). Вот Владимир
Сергеевич Г-в, будучи бесконвойным, там, за зоной, писал где-то 4 месяца
лагерную летопись, -- но в опасную минуту зарыл в землю, а сам оттуда был
угнан навсегда -- так и осталась в земле. И в зоне нельзя, и за зоной
нельзя, где можно? В голове только! но так пишутся стихи, не проза.
экстраполяцией рассчитать по нескольким уцелевшим нам -- потому что не было
вероятности выжить и нам. (Перебирая например свою лагерную жизнь, я
уверенно вижу что должен был на Архипелаге умереть -- либо уж так
приспособиться выжить, что заглохла бы и нужда писать. Меня спасло побочное
обстоятельство -- математика. Как это использовать в расчётах?)
ушедшего в землю озера. Это -- пена, а не проза, потому что она освободила
себя ото всего, что было главное в тех десятилетиях. Лучшие из писателей
подавили в себе лучшее и отвернулись от правды -- и только так уцелели сами
и книги их. Те же, кто не мог отказаться от глубины, особенности и прямизны
-- неминуемо должны были сложить голову в эти десятилетия -- чаще всего
через лагерь, иные через безрассудную смелость на фронте.
Прозаики-импрессионисты. Прозаики-юмористы.
возможность для нашей литературы, а может быть -- и для мировой. Небывалое
крепостное право в расцвете XX века в этом одном, ничего не искупающем,
смысле открывало для писателей плодотворный, хотя и гибельный путь. *(6)
на смерть и без надежды на возврат. Впервые в истории такое множество людей
развитых, зрелых, богатых культурой оказалось без придумки и навсегда в
шкуре раба, невольника, лесоруба и шахтёра. Так впервые в мировой истории (в
таких масштабах) [слились] опыт верхнего и нижнего слоя общества! Растаяла
очень важная, как будто прозрачная, но непробиваемая прежде перегородка,
мешавшая верхним понять нижних: ЖАЛОСТЬ. Жалость двигала благородными
соболезнователями прошлого (всеми просветителями!) -- и жалость же ослепляла
их! Их мучили угрызения, что они сами не делят злой доли, и оттого они
считали себя обязанными втрое кричать о несправедливости, упуская при этом
доосновное рассмотрение человеческой природы нижних, верхних, всех.
они полностью делили злую долю народа! Только теперь русский образованный
человек мог писать крепостного мужика [изнутри] -- потому что сам стал
крепостным!
теперь надзиратели трясли его вещи, заглядывали ему в пищеварительный вход и
выход, а оперчекисты -- в глаза.
умерли...
чугунной коркой Архипелага.
самодеятельности. Это отправление -- руководить самодеятельностью, осталось
и за одряхлевшим КВЧ, как было за молодым. *(7) На отдельных островах
возникала и исчезала самодеятельность приливами и отливами, но не
закономерными, как морские, а судорожно, по причинам, которые знало
начальство, а зэки нет, может быть начальнику КВЧ раз в полгода что-то надо
было в отчёте поставить, может быть ждали кого-нибудь сверху.
зоне-то обычно не видно, вместо него всё крутит заключённый воспитатель)
вызывает аккордеониста и говорит ему:
пусть подпевают.
Комната КВЧ для этого мала, надо попросторней, а уж клубного зала конечно
нет. Обычен для этого удел лагерных столовых -- постоянно провонявшихся
паром баланды, запахом гнилых овощей и варёной трески. В одной стороне
столовой -- кухня, а в другой -- или постоянная сцена или временный помост.
Здесь-то после ужина и собирается хор и драмкружок. (Обстановка -- как на
рисунке А. Г-на. Только художник изобразил не свою местную самодеятельность,
а приезжую культбригаду. Сейчас соберут последние миски, выгонят последних
доходяг -- и запустят зрителей. Читатель сам видит, сколько радости у
крепостных артисток.)
может быть есть 3-4 настоящих любителя пения, -- но из кого же хор? А
встреча на хоре и есть главная заманка для смешанных зон! (Посмотрим еще раз
на фото стр. 458. Что ж, не ясно, для чего они все в КВЧ.) Назначенный
хормейстером А. Сузи удивлялся, как непомерно растет его хор, так что ни
одной песни он не может разучить до конца -- валят всё новые и новые
участники, голосов никаких, никогда не пели, но все просятся, и как было бы
жестоко им отказать, не посчитаться с проснувшейся тягой к искусству!
Однако, на самих репетициях хористов оказывалось гораздо меньше. (А дело
было в том, что разрешалось участникам самодеятельности два часа после отбоя
передвигаться по зоне -- на репетицию и с репетиции, и вот эти-то два часа
они своё добирали!)
хоре баса отправляли на этап (этап шел не по тому ведомству, что концерт), а
хормейстера (того же Сузи) отзывал начальник КВЧ и говорил:
можем, потому что Пятьдесят Восьмая не имеет права руководить хором. Так
подготовьте себе заместителя: руками махать -- это ж не голос, найдёте.
опять-таки подделкой под жизнь, или не подделкой, а напоминанием, что жизнь
всё-таки бывает, вообще -- бывает... Вот приносится со склада грубая бурая
бумага от мешка с крупой -- и раздаётся для переписки ролей. Заветная
театральная процедура! А само распределение ролей! А соображение, кто с кем
будет по спектаклю целоваться! Кто что наденет! Как загримируется! Как будет
интересно выглядеть! В вечер спектакля можно будет взять в руки настоящее
зеркало и увидеть себя в настоящем вольном платье и с румянцем на щеках.
пьесы! Эти специальные сборники, помеченные грифом "[только внутри] ГУЛага!"
Почему же -- только? Не кроме воли еще и в ГУЛаге, а -- только в ГУЛаге?..
Это значит, уж такая наболтка, такое свиное пойло, что и на воле его не
хлебают, так лей сюда! Это уж самые глупые и бездарные из авторов пристроили
свои самые мерзкие и вздорные пьесы! А кто бы захотел поставить чеховский
водевиль или другое что-нибудь -- так ведь еще эту пьесу где найти? Её и у
вольных во всём посёлке нет, а в лагерной библиотеке есть Горький, да и то
страницы на курево вырваны.
Достаёт он откуда-то пьеску необычайную: патриотическую, о пребывании
Наполеона в Москве (да уж наверно на уровне растопчинских афишек)!
Распределили роли, с энтузиазмом кинулись репетировать -- кажется, что' бы
могло помешать? Главную роль играет Зина, бывшая учительница, арестованная
после того, как оставалась на оккупированной территории. Играет хорошо,



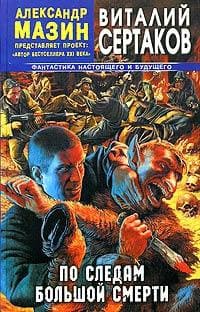
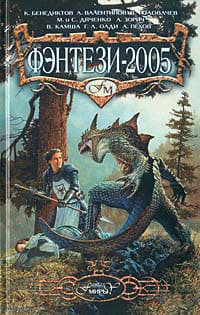
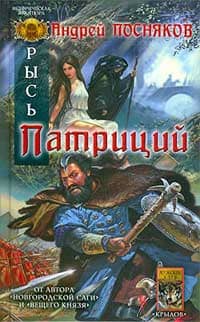
 Шилова Юлия
Шилова Юлия Флинт Эрик
Флинт Эрик Земляной Андрей
Земляной Андрей Каменистый Артем
Каменистый Артем Херберт Фрэнк
Херберт Фрэнк Афанасьев Роман
Афанасьев Роман