секции в секцию, советовались. У нас было двоякое положение: стукачи были
искоренены из нашей среды, но иные еще подозревались, даже наверняка были --
как скользкий, смело держащийся Михаил Генералов, бригадир авторемонтников.
Да и просто знание жизни подсказывало, что многие сегодняшние забастовщики,
голодающие во имя свободы, завтра будут [раскалываться] во имя покойного
рабства. Поэтому те, кто направляли забастовку (такие были, конечно) не
выявлялись, не выступали из подполья. Они не брали власти открыто, бригадиры
же от своей открыто отреклись. Оттого казалось, что мы бастуем как бы по
течению, никем не руководимые.
шесть-семь, вышли в сени к терпеливо ожидавшему нас начальству (это были
сени того самого барака два, недавней режимки, откуда шёл подкоп-метро, и
самый их лаз начинался в нескольких метрах он нынешней нашей встречи). Мы
прислонились к стенам, опустили глаза и замерли, как каменные. Мы опустили
глаза потому, что смотреть на хозяев взглядом подхалимным не хотел уже
никто, а мятежным -- было бы неразумно. Мы стояли как заядлые хулиганы,
вызванные на педсовет -- в расхлябанных позах, руки в карманах, головы набок
и в сторону -- невоспитуемые, непробиваемые, безнадёжные.
передних, задние кричали всё, что хотели: наши требования и наши ответы.
не виданные нами) формально видели одних бригадиров и говорили им. Они
обращались сдержанно. Они уже не стращали нас, но и не снисходили еще к
равному тону. Они говорили, что в наших якобы интересах -- прекратить
забастовку и голодовку. В этом случае будет нам выдана не только сегодняшняя
пайка, но и -- небывалое в ГУЛаге! -- вчерашнего дня. (Как привыкли они, что
голодных всегда можно купить!) Ничего не говорилось ни о наказаниях, ни о
наших требованиях, как будто их не существовало.
бараке ни голоса не раздалось, что надо было уступить. Никто не сожалел
вслух.
внутренних дел, конечно, уже знали или сегодня узнают -- но [Ус?] Ведь этот
мясник не остановится расстрелять и всех нас, пять тысяч.
нелётная облачная погода. Догадывались, что прилетел кто-нибудь еще повыше.
сейчас, после девятнадцати отсиженных лет устроенный где-то на кухне, ходил
в этот день по зоне и успел и не побоялся принести и бросить нам в окно
мешочек с полпудом пшена. Его разделили между семью бригадами и потом варили
ночью, чтобы не наскочил надзор.
украинский, не поддержал нас. И вчера и сегодня украинцы выходили на работу
как ни в чём не бывало. Сомнений не было, что они получили наши записки и
слышат двухдневную нашу тишину, и с башенного крана строительства видят
двухдневное наше безлюдье после ночной стрельбы, не встречают в поле наших
колонн. И тем не менее -- они нас не поддержали!.. (Как мы узнали потом,
молодые парни, их вожаки, еще не искушённые в настоящей политике, рассудили,
что у Украины -- судьба своя, от москалей отдельная. Так ретиво начав, они
теперь отступались от нас.) Нас было, значит, не пять тысяч, а только три.
бригадиров в сени, и мы опять пошли и стали, неохотливые, непроницаемые,
воротя морды, -- решение общее было: не уступать! Уже у нас появилась
инерция борьбы.
Управление примет все жалобы. Оно разберет и устранит причины [конфликта]
между администрацией и заключёнными.
слова. Мы штурмовали тюрьму, били стёкла и фонари, с ножами гонялись за
надзирателями, и это, оказывается, не бунт совсем -- а [конфликт между!] --
между равными сторонами -- администрацией и заключёнными!
наши душевладельцы изменили тон! никогда за всю жизнь, не только
арестантами, но вольными, но членами профсоюза не слышали мы от хозяев таких
елейных речей!
[здесь]. И пообещать решить -- тоже никто не мог. Бригадиры ушли, не подняв
голов, не обернувшись, хотя начальник ОЛПа по фамилии окликал нас.
секциям началось буйное обсуждение. Слишком был велик соблазн! Мягкость тона
тронула неприхотливых зэков больше всяких угроз. Появились голоса --
уступить. Чего большего мы могли достигнуть в самом деле?..
чувства и нёс их вверх, теперь затрепетал крыльями и стал оседать.
молчали всю жизнь -- и промолчали бы её до смерти. Их слушали, конечно, и
недобитые стукачи. Эти призывы позвончавшего, на несколько минут обретённого
голоса (в нашей комнате -- Дмитрий Панин), должны были окупиться потом новым
сроком, петлёй на задрожавшее от свободы горло. Нужды нет, струны горла в
первый раз делали то, для чего созданы.
-- тюремщиков, лагерной псарни. Сколько тюрьмы стоят и сколько стоят лагеря
-- когда ж они выполнили хоть одно своё слово?!
раз мы стали на верную дорогу -- и уже уступить? В первый раз мы
почувствовали себя людьми -- и скорее сдаться? Весёлый злой вихорок обдувал
нас и познабливал: продолжать! продолжать! Еще не так они с нами заговорят!
Уступят! (Но когда и в чём можно будет им поверить? Это оставалось неясным
всё равно. Вот судьба угнетённых: им неизбежно [поверить] и уступить...)
двухсотенного чувства! Он поплыл!
пустяках. Довольно дела нам осталось -- думать.
делил. В общем молчании и неподвижности слышались только голоса молодых
наблюдателей, прильнувших к окнам: они рассказывали нам обо всех
передвижениях по зоне. Мы любовались этой двадцатилетней молодёжью, её
голодным светлым подъёмом, её решимостью умереть на пороге еще не
начинавшейся жизни -- но не сдаться! Мы завидовали, что в наши головы истина
пришла с опозданиемм, а позвонки спинные уже костенеют на пригорбленной
дужке.
и слесаря Богдана.
показалось закатное солнце -- наблюдатели крикнули с горячей досадой:
с нижних и верхних нар вагонок, на четвереньках и через плечи друг друга, мы
смотрели, замерев, на это печальное шествие.
против заходящего солнца, тянулись наискосок по зоне длинной покорной
униженной вереницей. Они шли, мелькая через солнце, растянутой неверной
бесконечной цепочкой, как будто задние жалели, что передние пошли -- и не
хотели за ними. некоторых, самых ослабевших, вели под руку или за руку, и
при их неуверенной походке это выглядело так, что многие поводыри ведут
многих слепцов. А еще у многих в руках были котелки или кружки -- и эта
жалкая лагерная посуда, несомая в расчёте на ужин, слишком обильный, чтобы
проглотить его сжавшимся желудком, эта выставленная перед собой посуда, как
у нищих за подаянием -- была особенно обидной, особенно рабской и особенно
трогательной.
их же.
вторника, лежали убитые.
решили простить убийц.
редко кто получал посылки. Там было много доходяг. Может быть, они сдались,
чтоб не было еще новых трупов?..
самозабвенные восстания. Тот самый инженер поляк Юрий Венгерский был теперь
в нашей бригаде. Он досиживал свой последний десятый год. Даже когда он был
прорабом -- никто не слышал от него повышенного тона. Всегда он был тих,
вежлив, мягок.
откинул голову от этого шествия за милостыней, выпрямился и злым звонким






 Посняков Андрей
Посняков Андрей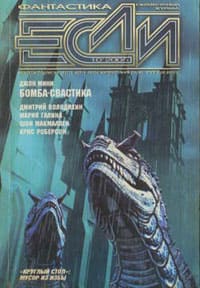 Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий Сертаков Виталий
Сертаков Виталий Шилова Юлия
Шилова Юлия Круз Андрей
Круз Андрей Херберт Фрэнк
Херберт Фрэнк