голосом крикнул:
пошли есть, а он -- не встал! Он не получал посылок, он был одинок, всегда
не сыт -- и не встал. Видение дымящейся каши не могло заслонить для него --
бестелесной Свободы!
наверстывать (хотя у начальников, конечно, зудело о плане), а только
кормили, отдавали хлеб за прошлое и давали бродить по зоне. Все ходили из
барака в барак, рассказывали, у кого как прошли эти дни, и было у всех
праздничное настроение, будто мы выиграли, а не проиграли. Да ласковые
хозяева еще раз обещали, что все [законные] просьбы (однако: кто знал и
определял, что' законно?..) будут удовлетворены.
забастовки бывший с нами, слышавший многие речи и видевший многие глаза --
[бежал на вахту]. Это значит -- он бежал предать и за зоной миновать ножа.
мнимое благородство есть внутрикастовая обязательность друг относительно
друга. Но, попав в круговорот революции, они обязательно сподличают. Они не
могут понять никаких принципов, только силу.
напротив -- приехали комиссии из Караганды, из Алма-Аты, из Москвы и будут
разбираться. В застылый седой мороз поставили стол посреди лагеря на
линейке, сели чины какие-то в белых полушубках и валенках и предложили
подходить с жалобами. Многие шли, говорили. Записывалось.
На самом деле это совещание было еще одной подлостью, формой следствия:
знали, как накипело у арестантов, и давали высказаться, чтобы потом
арестовывать верней.
опухоль, операцию которой я давно откладывал на такое время, когда,
по-лагерному, это будет "удобно". В январе и особенно в роковые дни
голодовки опухоль за меня решила, что сейчас -- удобно, и росла почти по
часам. Едва раскрыли бараки, я показался врачам, и меня назначили на
операцию. Теперь я потащился на это последнее совещание.
мест поставили длинный стол президиума, за него сели один полковник МВД,
несколько подполковников, остальные помельче, а наше лагерное начальство и
совсем терялось во втором ряду, за их спинами. Там же, за спинами, сидели
записывающие -- они всё собрание вели поспешные записи, а из первого ряда им
еще повторяли фамилии выступающих.
быстрый, умный, хваткий злодей с высокой узкой головой, и этой хваткостью
мысли, и узостью лица как бы совсем не принадлежавший к тупой чиновной
своре.
подняться. Едва начинали они что-то говорить своё, их сбивали, приглашали
объяснить: за что режут [людей]? и какие были цели у забастовки? И если
злополучный бригадир пытался как-то ответить на эти вопросы -- за что режут
и какие требования, на него тут же набрасывались сворой: а [откуда] вам это
известно? значит, вы [связаны] с бандитами? Тогда назовите их!!
требований...
злодей-подполковник, очень хорошо у него был подвешен язык и имел он перед
нами преимущество безнаказанности. Острыми перебивами он снимал все
выступления, и уже начал складываться такой тон, что во всём обвиняли нас, а
мы оправдывались.
(её как эхо повторили для записывающего). Я поднимался со скамьи, зная, что
из собравшихся тут вряд ли кто быстрее меня вытолкнет через зубы
грамматически законченную фразу. Одного только я вовсе не представлял -- о
чём я могу им говорить? Всё то, что написано вот на этих страницах, что было
нами пережито и передумано все годы каторги и все дни голодовки -- сказать
им было всё равно, что орангутангам. Они числились еще русскими и еще как-то
умели понимать русские фразы попроще, вроде "разрешите войти!", "разрешите
обратиться!" Но когда сидели они вот так, за длинным столом, рядом, выявляя
нам свои однообразно-безмыслые белые упитанные благополучные физиономии, --
так ясно было, что все они давно уже переродились в отдельный биологический
тип, и последняя словесная связь между нами порывается безнадежно, и
остается -- пулевая.
понимал. На первых же словах он попробовал меня сбить. Началось при всеобщем
внимании состязание молниеносных реплик:
фразу.
экскаваторы]! (Сам не знаю, откуда так быстро и ясно приходит мысль.)
продолжаю речь.
мой не вывернется сказать им то, что они заслужили. Я мог бы сказать сейчас
бессмертную речь -- но быть расстрелянным завтра. И я сказал бы её всё равно
-- но если бы меня транслировали по всему миру! Нет, слишком мала аудитория.
перерождения власти. Я ограничиваюсь тем, что перед их выставленными носами
провожу керосином. Я узнал, что здесь сидит начальник конвойных войск -- и
вот я оплакиваю недостойное поведение конвоиров, утерявших облик советских
воинов, помогающих растаскивать производство, к тому же грубиянов, к тому же
убийц. Затем я рисую надзорсостав лагеря как шайку стяжателей, понуждающих
зэков разворовывать для них строительство (так это и есть, только начинается
это с офицеров, сидящих здесь). И какое же развоспитывающее действие это
производит на заключённых, желающих исправиться!
косноязычно, от сильного волнения или от роду так он, говорит:
мы -- как собаки...
каторжник, некрасивый, с лицом ожесточённым, искривленным, так трудно найти
ему правильные слова...
Т., и все сидящие бригадиры напрягаются. -- У собаки один номер на ошейнике,
а у нас четыре. Собаку кормят мясом, а нас рыбьими костями. Собаку в карцер
не сажают! Собаку с вышки не стреляют! Собакам не лепят по [двадцать пять]!
встаёт еще бригадир, говорят смело, горячо. В президиуме настойчиво и
подчёркнуто повторяют их фамилии.
этих ударов головами и развалится проклятая стена.
лагпункте, как будто ничего и не было.
туда ведут после голодовки, первый вестник. Хирург Янченко, который должен
меня оперировать, зовёт меня на осмотр, но не об опухоли его вопросы и мои
ответы. Он невнимателен к моей опухоли, и я рад, что такой надёжный будет у
меня врач. Он расспрашивает, расспрашивает. Лицо его темно от общего нашего
страдания.
масштабе! Вот эта самая опухоль, повидимому раковая, -- какой бы удар она
была на воле, сколько переживаний, слёзы близких. А здесь, когда головы так
легко отлетают от туловищ, эта же самая опухоль -- только повод полежать, я
о ней и думаю мало.
избитые надзирателями до кровавого месива -- им не на чем лежать, всё
ободрано. Особенно зверски бил один рослый надзиратель -- железной трубою
(память, память! -- фамилии сейчас не вспомню). Кто-то уже умер от ран.
расправа. Арестовали сорок человек. Опасаясь нового мятежа, сделали это так:
до последнего дня всё было по-прежнему добродушно, надо было думать, что
хозяева разбираются, кто там из них виноват. Только в намеченный день, когда
бригады уже проходили ворота, они замечали, что их принимает удвоенный и
утроенный конвой. Задумано было взять жертвы так, чтобы ни друг другу мы не
помогли, ни стены бараков или строительства -- нам. Выведя из лагеря,
разведя колонны по степи, но никого еще не доведя до цели, начальники конвоя


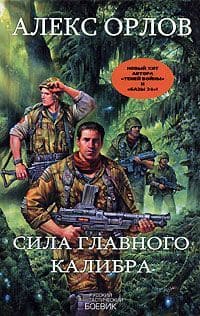
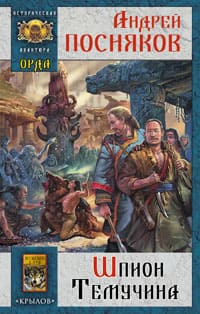

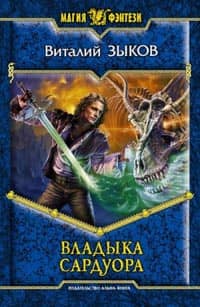
 Марко Джон
Марко Джон Посняков Андрей
Посняков Андрей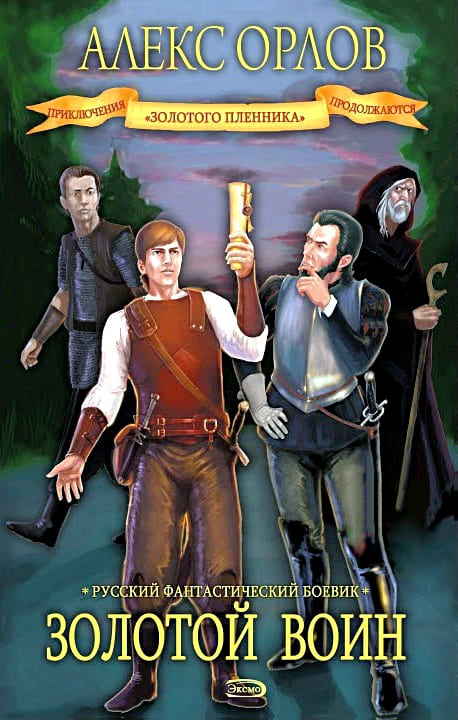 Орлов Алекс
Орлов Алекс Василенко Иван
Василенко Иван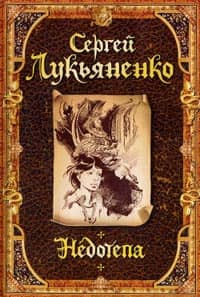 Лукьяненко Сергей
Лукьяненко Сергей Херберт Фрэнк
Херберт Фрэнк