именно там такие освобожденные плавающие мысли, до которых недавно не мог бы
ты ни подпрыгнуть, ни вознестись.
или в боксе, или в подвале. Тебе никто слова человеческого не говорил, на
тебя человеческим взором никто не глянул -- а только выклевывали железными
клювами из мозга твоего и из сердца, ты кричал, ты стонал -- а они смеялись.
разумом и жизнью; и уже с батареи отопления падал так, чтобы голову
размозжить о чугунный конус слива, *(2) -- и вдруг ты жив, и тебя привели к
твоим друзьям. И разум -- вернулся к тебе.
закатывали из щели да в нору, из Лефортова да в какую-нибудь чертову
легендарную Сухановку.
нашего брата, её имя выговаривают следователи со зловещим шипением. (А кто
там был -- потом не допросишься: или бессвязный бред несут или нет их в
живых).
следственный из 68 келий. Везут туда воронками два часа, и мало кто знает,
что тюрьма эта -- в нескольких километрах от Горок Ленинских и от бывшего
имения Зинаиды Волконской. Там прелестная местность вокруг.
таким, что если стоять ты не в силах, остается висеть на упертых коленях,
больше никак. В таком карцере держат и больше суток -- чтобы дух твой
смирился. Кормят в Сухановке нежной вкусной пищей, как больше нигде в МГБ --
а потому что носят из дома отдыха архитекторов, не держат для свиного пойла
отдельной кухни. Но то, что съедает один архитектор -- и картошечку
поджаренную и биточек, делят здесь на двенадцать человек. И оттого ты не
только вечно голоден, как везде, но растравлен больнее.
одному. Камеры там -- полтора метра на два. *(3) В каменный пол вварены два
круглых стулика, как пни, и на каждый пень, если надзиратель отопрет в стене
английский замок, отпадает из стены на семь ночных часов (то есть, на часы
следствия, днем его там не ведут вообще) полка и сваливается соломенный
матрасик размером на ребенка. Днем стулик освобождается, но сидеть на нём
нельзя. Еще на четырех стоячих трубах лежит как доска гладильная -- стол.
Форточка всегда закрыта, лишь утром на десять минут надзиратель открывает её
штырем. Стекло маленького окна заарматурено. Прогулок не бывает никогда,
оправка -- только в шесть утра, то есть, когда ничьему желудку она еще не
нужна, вечером её нет. На отсек в семь камер приходится два надзирателя,
оттого глазок смотрит на тебя так часто, как надо надзирателю шагнуть мимо
двух дверей к третьей. В том и цель беззвучной Сухановки: не оставить тебе
ни минуты сна, ни минут, украденных для частной жизни -- ты всегда
смотришься и всегда во власти.
устоял -- ты заслужил свою первую камеру! И теперь ты в ней заживишься
душой.
созрел для своей первой камеры; хотя для тебя же лучше не дожить бы до этого
счастливого мига, а умереть победителем в подвале, не подписав ни листа.
других живых, *(4) кто тоже идет твоим путем и кого ты можешь объединить с
собою радостным словом МЫ.
заменили твою личность (" мы все, как один!.. мы горячо негодуем!.. мы
требуем!.. мы клянемся!..") -- теперь открывается тебе как сладостное: ты не
один на свете! Есть еще мудрые духовные существа -- ЛЮДИ!!
своем ослепительном электрическом боксе лег по отбою, надзиратель стал
отпирать мою дверь. Я все слышал, но прежде, чем он скажет: "Встаньте! На
допрос!", хотел еще три сотых доли секунды лежать головой на подушке и
воображать, что я сплю. Однако, надзиратель сбился с заученного: "Встаньте!
Соберите постель!"
намотал портянки, надел сапоги, шинель, зимнюю шапку, охапкой обнял казенный
матрас. Надзиратель на цыпочках, всё время делая мне знаки, чтоб я не шумел,
повел меня могильно-бесшумным коридором четвертого этажа Лубянки мимо стола
корпусного, мимо зеркальных номеров камер и оливковых щитков, опущенных на
глазки, и отпер мне камеру 67. Я вступил, он запер за мной тотчас.
такое хрупкое ненадежное время сна и так мало его, что жители 76-й камеры к
моему приходу уже спали на металлических кроватях, положив руки сверх
одеяла. *(5) От звука отпираемой двери все трое вздрогнули и мгновенно
подняли головы. Они тоже ждали, кого на допрос.
лица показались мне такими человеческими, такими милыми, что я стоял, обняв
матрас, и улыбался от счастья. И они -- улыбнулись. И какое ж это было
забытое выражение! -- а всего за недельку!
же после девяноста шести часов следствия никак не считал, что я с "воли",
разве я еще не испытанный арестант?.. И всё-таки я был [с воли]! И
безбородый старичок с черными очень живыми бровями уже спрашивал меня о
военных и политических новостях. Потрясающе! -- хотя были последние числа
февраля, но они ничего не знали ни о Ялтинской конференции, ни об окружении
Восточной Пруссии, ни вообще о нашем наступлении под Варшавой с середины
января, ни даже о декабрьском плачевном отступлении союзников. По инструкции
подследственные не должны были ничего узнавать о внешнем мире -- и вот они
ничего не знали!
все победы и охваты были делом моих собственных рук. Но тут дежурный
надзиратель внес мою кровать, и надо было бесшумно её расставить. Мне
помогал парень моего возраста, тоже военный: его китель и пилотка летчика
висели на столбике кровати. Он еще раньше старичка спросил меня -- только не
о войне, а о табаке. Но как ни был я растворен душой навстречу моим новым
друзьям и как ни мало было произнесено слов за несколько минут, -- чем-то
чужим повеяло на меня от этого моего ровесника и софронтовика, и для него я
замкнулся сразу и навсегда.
быть, я вообще не успел еще обдумать и сказать, что этот человек, Георгий
Крамаренко, не нравится мне -- а уже сработало во мне духовное реле,
реле-узнаватель, и навсегда закрыло меня для этого человека. Я не стал бы
упоминать такого случая, будь он единственным. Но работу этого
реле-узнавателя внутри меня я скоро с удивлением, с восторгом и тревогой
стал ощущать как постоянное природное свойство. Шли годы, я лежал на одних
нарах, шел в одном строю, работал в одних бригадах со многими сотнями людей,
и всегда этот таинственный реле-узнаватель, в создании которого не было моей
заслуги ни черточки, срабатывал, прежде, чем я вспоминал о нём, срабатывал
при виде человеческого лица, глаз, при первых звуках голоса -- и открывал
меня этому человеку нараспашку, или только на щелочку, или глухо закрывал.
Это было всегда настолько безошибочно, что возня оперуполномоченных со
снаряжением стукачей стала казаться мне козявочной: ведь у того, кто взялся
быть предателем, это явно всегда на лице, и в голосе, у иных как будто
ловко-противоречиво -- а нечисто. И, напротив, узнаватель помогал мне
отличать тех, кому можно с первых минут знакомства открывать сокровеннейшее,
глубины и тайны, за которые рубят головы. Так прошел я восемь лет
заключения, три года ссылки, еще шесть лет подпольного писательства, ничуть
не менее опасных, -- и все семнадцать лет опрометчиво открывался десяткам
людей -- и не оступился ни разу! -- Я не читал нигде об этом и пишу здесь
для любителей психологии. Мне кажется, такие духовные устройства заключены
во многих из нас, но, люди слишком технического и умственного века, мы
пренебрегаем этим чудом, не даем ему развиться в нас).
лежа, чтобы сейчас же из этого уюта не отправиться в карцер), но третий наш
сокамерник, лет средних, а уже с белыми иголочками сединок на стриженной
голове, смотревший на меня не совсем довольно, сказал с суровостью,
украшающей северян:
на допрос и держать там до шести утра, когда следователь пойдет спать, а
здесь уже спать запретится.
своего рассказа, однако не дано мне было так рано его назвать: что наступила
(с арестом каждого из нас) мировая переполюсовка или оборот всех понятий на
сто восемьдесят градусов, и то, что с таким упоением я начал рассказывать --
может быть для [нас]-то совсем не было радостным.
лампочки, обмотали полотенцами верхнюю руку, зябнущую поверх одеяла, нижнюю
воровски припрятали и заснули.
мог рассчитывать, что меня сведут с кем-нибудь. Я мог и жизнь кончить с
пулей в затылке (следователь всё время мне это обещал), так никого и не
повидав. Надо мной по-прежнему висело следствие, но как оно сильно
отступило! Завтра буду рассказывать я (не о своем [деле], конечно), завтра





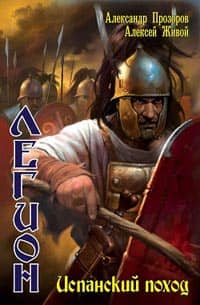
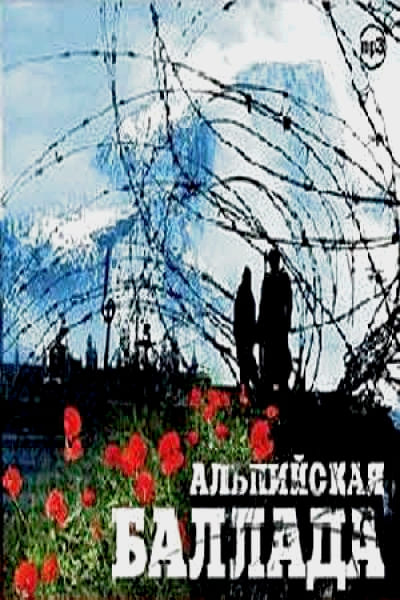 Быков Василий
Быков Василий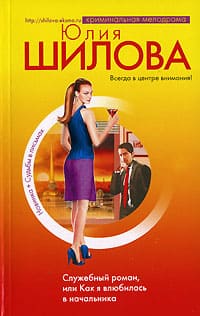 Шилова Юлия
Шилова Юлия Афанасьев Роман
Афанасьев Роман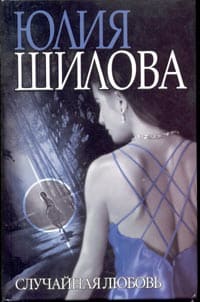 Шилова Юлия
Шилова Юлия Рыбаков Вячеслав
Рыбаков Вячеслав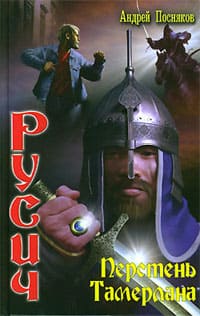 Посняков Андрей
Посняков Андрей