гулять и прийти в ужинный перерыв, запущенных же в коридор разместил вдоль
стенки поодаль от кабинетов начальства и сам всё время ходил по проходу,
наблюдая порядок. Очередной зэк миновал несколько дверей, стучался в кабинет
майора Мышина и, получив разрешение, вступал. По его возврату пускался
другой. Весь обеденный перерыв шебутной старшина руководил движением.
ему, что будет выдавать в перерыв, когда и всем. Но за полчаса до обеда
Спиридона вызвал к себе на допрос майор Шикин. Спиридону бы дать требуемые
показания, признаться во всём -- и он, глядишь, успел бы получить письмо. Но
он запирался, упорствовал -- и майор Шикин не мог отпустить его в таком
нераскаянном виде. Поэтому, жертвуя своим перерывом (в столовую вольных он
ходил всё равно не в перерыв, чтоб не толкаться) -- Шикин продолжал
допрашивать Спиридона.
Семёрки, один из основных её работников. Больше трёх месяцев он не получал
писем. Тщетно он осведомлялся у Мышина, ответы были: "нет", "не пишут".
Тщетно он просил Мамурина, чтобы слали розыск -- розыска не слали. И вот
сегодня он увидел свою фамилию в списке и, перемогая боль в груди, успел
прибежать первый. Осталась у него из семьи одна жена, изведенная
десятилетним ожиданием, как и он.
Руська Доронин с волнисто-дрожащим взбитком светлых волос. Увидев рядом в
очереди латыша Хуго, одного из своих доверенных, он тряхнул волосами и
шепнул, подмигивая:
Булатов.
разговаривать.
вспыхнуло. -- Я тебе давно говорю -- зажимают письма. Откажись работать!
голову втягивал в плечи, как будто стукнули его хорошо один раз сзади чем-то
большим.
сидеть и сидеть. Но решительность зэка тем более падает, чем меньше ему
остаётся до освобождения. Дырсин же [разменял] последний год.
ни высоты, ни куполообразности -- грязная брезентовая крыша, натянутая над
землёй. Под резким влажным ветром снег оседал, ноздревател, исподволь рыжела
его утренняя белизна. Под ногами гуляющих он сбивался в буроватые скользкие
бугорки.
вянущие без воздуха арестанты шарашки отказались от прогулки. Засидевшимся в
комнатах, им были даже приятны эти резкие порывы сырого ветра -- они
выдували из человека застойный воздух и застойные мысли.
брал под руку, совершал с ним петлю-две и просил совета. Его положение было
особенно ужасно, как считал он: ведь, находясь в заключении, он не мог
вступить в брак со своей первой женой, и она теперь рассматривалась как
незаконная; он не имел права дольше ей писать; и даже написать о том, что не
будет писать -- не мог, исчерпавши декабрьский месячный лимит. Ему
сочувствовали. Его положение, в самом деле, было нелепо. Но у каждого своя
боль пересиливала чужие.
вставленной жердью, медленно шёл, глядя поверх голов гуляющих и в мрачном
упоении высказывал профессору Челнову, что когда так попрано человеческое
достоинство, жить дальше -- значит унижать себя. У каждого мужественного
человека есть простой выход из этой цепи издевательств.
плеч, со сдержанностью цитировал художнику "Тюремные утешения" Боэция.
Булатов, чей голос разносился на весь двор; Хоробров; беззлобный вакуумщик
Земеля; старший вакуумщик Двоетёсов, принципиально в лагерном бушлате;
юркий, во всё сующийся Прянчиков; лидер немцев Макс; и один из латышей.
их в намерении не расходиться.
пробегая глазами вереницу очереди. О некоторых он мог с вероятностью
сказать, что они стоят за получением своей иудиной платы. Но подозревали,
конечно, наименее ловких.
не помахивать денежным переводом. Соткнувшись головами, они все быстро
осмотрели перевод: он был от мифической Клавдии Кудрявцевой Ростиславу
Доронину на 147 рублей!
омутнённым взглядом обер-стукач, премьер стукачей, Артур Сиромаха. Он
оглядел группу по привычке замечать всё, но ещё не придал ей значения.
вечером в запертом ковчеге предлагавший приравнять министров к
ассенизаторам, а потом как ребёнок устроивший потасовку подушками на верхних
койках.
в доску". В улыбке он обнажал крупные ровные зубы и молодых ли, старых ли
арестантов -- всех подкупающе звал "братцы". Через это сердечное обращение
сквозила его чистая душа.
сразу нащупал ногой обрыв ступеньки. Так же не видя, сошёл с неё в сторону
-- и никто из группы "охотников" не потревожил его. Неодетый, без шапки, под
ветром, трепавшим его волосы, ещё молодые вопреки всему пережитому, он читал
после восьми лет разлуки первое письмо от дочери Ариадны, которую, уходя в
41-м году на фронт (а оттуда -- в плен, а из плена -- в тюрьму) оставил
светленькой шестилетней девчушкой, цеплявшейся за его шею. И когда в бараке
военнопленных ходили с хрустом по слою тифозных вшей, и когда по четыре часа
он стоял в очереди за черпаком мутно-вонючей баланды, -- дорогой светленький
клубочек всё тянул его ниточкой Ариадны -- как-нибудь пережить и вернуться.
Но вернувшись на родину, сразу в тюрьму, он так и не увидел дочери: они с
матерью остались в Челябинске, где были в эвакуации. И мать Ариадны, видимо
уже с кем-то сойдясь, долго не хотела открывать дочери существование отца.
писала:
простительно мне, так как я тебя очень давно не видела и привыкла к тому,
что отец мой погиб. Мне даже странно, что у меня и вдруг папа.
в Комсомол. Ты просишь написать тебе, в чём я нуждаюсь. Хочется мне,
конечно, очень много. Сейчас коплю деньги на боты и на пошивку демисезонного
пальто. Папа! Ты просишь, чтоб я к тебе приехала на свидание. Но разве это
такая срочность? Ехать где-то так далеко тебя разыскивать -- согласись сам,
не очень приятно. Когда сможешь -- приедешь сам. Желаю тебе успехов в
работе. Пока до свиданья.
пропускаю ни одной картины."
сейчас он как раз задерживался у кума.
гибким телом спортсмена, солдата и любовника. Жизнь вырвала его сразу с
беговых дорожек юношеского стадиона в концлагерь, в Баварию. В этом тесном
пространстве смерти, куда загнали русских солдат враги, а своя советская
власть не допустила международного Красного Креста, -- в этом маленьком
плотном пространстве ужаса выживали только те, кто наиболее отрешился от
ограниченных относительных классовых понятий добра и совести; те, кто мог
продавать своих, став переводчиком; те, кто мог палкой по лицу бить
соотечественников, став лагерным надзирателем; те, кто мог есть хлеб
голодающих, став хлеборезом или поваром. И ещё было две возможности выжить
-- могильщиком и золотарём. За рытьё могил и за чистку уборных нацисты
положили лишний черпак баланды. Но с уборными справлялись двое. На могилы же
выходило каждый день полсотни. Что ни день, десяток дрог вывозил мёртвых на
свалку. К лету сорок второго года подходила очередь и самих могильщиков. Со
всей жаждой ещё нежившего тела Виктор Любимичев хотел жить. Он решил, что
если умрёт, то последним, и уже договаривался в надзиратели. Но выпала
счастливая возможность -- приехал в лагерь какой-то гнусавый бывший политрук
-- и стал уговаривать идти бить коммунистов. Записывались. Среди них -- и
комсомольцы... За воротами лагеря стояла немецкая военная кухня, и
волонтёров тут же кормили кашей "от пуза". После этого в составе легиона
Любимичев воевал во Франции: ловил по Вогёзам партизан "движения
сопротивления", потом отбивался на Атлантическом Валу от союзников. В сорок
пятом году во времена великого лова он как-то просеялся сквозь решето,
приехал домой, женился на девушке с такими же ясными глазами, таким же юным
гибким телом и, оставив её на первом месяце, был арестован за прошлое.
Тюрьмы как раз в это время проходили русские участники того самого "движения



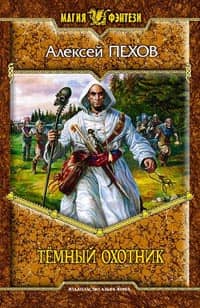


 Конюшевский Владислав
Конюшевский Владислав Перумов Ник
Перумов Ник Шилова Юлия
Шилова Юлия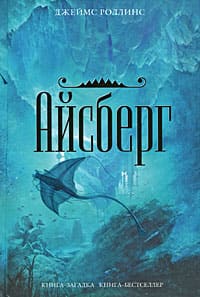 Роллинс Джеймс
Роллинс Джеймс Круз Андрей
Круз Андрей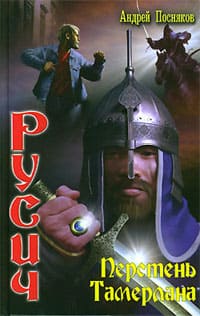 Посняков Андрей
Посняков Андрей