сказала она. -- Но будешь ли ты счастлив, Антон?.. Остерегись и ты.
Заинтересовавшись [процессом] жизни, мы теряем... теряем... ну, как тебе
передать... -- Она кончики пальцев тёрла в щепоти, ища слово, и лицо стало
болезненно-беспокойно. -- Вот колокол отзвонил, звуки певучие улетели -- и
уж их не вернуть, а в них вся музыка. Понимаешь?.. -- Ещё искала. -- А
представь себе, что когда будешь умирать, вдруг попросишь: похороните меня
по православному обряду?..
Зашли. Под толстыми сводами кольцевая галлерея с оконцами, обрешеченными в
древне-русском стиле, шла вокруг церкви обводом. Низкая распирающая арка
вела из галлереи под неф среднего храмика.
расходилось золотой игрой по верху иконостаса и мозаичному образу Саваофа.
столпе и строго стояла, почти не крестясь, кисти сомкнув у груди,
одухотворённо глядя перед собой. И рассеянный свет заката и оранжевые
отблески свечей вернули щекам Агнии жизнь и теплоту.
неисчерпаемо красноречив, лавиной лились хвалы и эпитеты Деве Марии, -- и в
первый раз Яконов понял экстаз и поэзию этого моления. Канон писал не
бездушный церковный начётчик, а неизвестный большой поэт, полонённый
монастырём; и был он движим не короткой мужской яростью к женскому телу, а
тем высшим восхищением, какое способна извлечь из нас женщина.
паперти церкви Никиты Мученика.
спускавшуюся к реке. Совершенно даже не верилось, что тот солнечный вечер и
этот декабрьский рассвет происходили на одних и тех же квадратных метрах
московской земли. Но всё так же был далёк обзор с холма, и те же были извивы
реки, повторенные последними фонарями...
вернулся, ему дали написать или почти только подписать газетную статью о
разложении Запада, его общества, морали, культуры, о бедственном положении
там интеллигенции, о невозможности развития науки. Это была не правда, но
как будто и не ложь. Эти факты были, хотя и не только они. Беспартийного,
его вызвали в партком и очень настаивали. Колебания Яконова могли вызвать
подозрения, положить пятно на его репутацию. Да и кому, собственно, могла
повредить такая заметка? Неужели Европа от неё пострадает?
"Митрополиту Кириллу".
Оттуда пахнуло сырым кирпичным запахом, холодом и тленом. Неясно рисовалось
глазам, что и внутри -- кучи битого камня и мусора.
косяку у ржавой железной двери, не распахивавшейся много лет.
могущественного министерства. Он был умён, талантлив -- и известен как умный
и талантливый. Дома ждала его любящая жена, розово спали две прелестные
девочки. Высокие в старом московском здании комнаты с балконом составляли
его превосходную квартиру. Измерялась во многих тысячах его месячная
зарплата. Персональная "победа" дожидалась его телефонного звонка.
так безнадёжно было в его душе, что не имел он силы пошевельнуть ни рукой,
ни ногой. Не тянуло его оглянуться на красоту утра.
иней опушил широчайший пень срубленного дуба, карнизы недоразрушенной
церкви, узорочные решётки её окон, провода, спустившиеся к соседнему домику,
и кромку долгого кругового забора внизу вокруг строительства будущего
небоскрёба.
ниток переплетенную, в тысячи звёздочек загнутую колючую проволоку, покатую
крышу сторожевой вышки и нескошенный бурьян на пустыре за проволокой.
стоял возле козел для пилки дров. Он был в рабочей лагерной телогрейке
поверх синего комбинезона, а голова его, с первыми сединками в волосах,
непокрыта. Он был ничтожный бесправный раб. Он сидел уже двенадцать лет, но
из-за второго лагерного срока конца тюрьме для него не предвиделось. Его
жена иссушила молодость в бесплодном ожидании. Чтобы не быть уволенной с
нынешней работы, как её уже увольняли со многих, она солгала, что мужа у неё
вовсе нет, и прекратила с ним переписку. Своего единственного сына Сологдин
никогда не видел: при его аресте жена была беременной. Сологдин прошёл
чердынские леса, воркутские шахты, два следствия -- полгода и год, с
бессонницей, изматыванием сил и соков тела. Давно уже было затоптано в грязь
его имя и его будущность. Имущество его было -- подержанные ватные брюки и
брезентовая рабочая куртка, которые сейчас хранились в каптёрке в ожидании
худших времён. Денег он получал в месяц тридцать рублей -- на три килограмма
сахара, и то не наличными. Дышать свежим воздухом он мог только в
определённые часы, разрешаемые тюремным начальством.
Распахнутая на морозце грудь вздымалась от полноты бытия.
мускулы и просили движения. И для этого он по доброй воле и безо всякого
вознаграждения каждое утро выходил колоть и пилить дрова для тюремной кухни.
не так просто были ему доверены. Тюремное начальство, обязанное за свою
зарплату в каждом невиннейшем поступке зэков подозревать коварство, а также
судящее по себе, никак не могло поверить, чтобы человек доброю волею
согласился бесплатно работать. Поэтому Сологдин упорно подозревался в
подготовке к побегу или вооружённому восстанию, тем более, что его тюремное
дело хранило следы того и другого. Было распоряжение: ставить в пяти шагах
от работающего Сологдина одного надзирателя, дабы следил за каждым его
движением, одновременно сам оставаясь недоступен для заруба топором. На эту
опасную службу надзиратели были готовы, и само такое соотношение -- один
наблюдающий при одном работающем, не казалось расточительным начальству,
воспитанному в добрых нравах ГУЛага. Но заупрямился (и тем только усугубил
подозрения) Сологдин: он заявил несдержанно, что при [попке] работать не
будет. На некоторое время колку дров вообще прервали (заставлять зэков
начальник тюрьмы не мог, это был не лагерь: зэки занимались работой
умственной и не по его ведомству). Основная беда была в том, что планирующие
инстанции и бухгалтерия не предусмотрели необходимости этой работы при
кухне. Поэтому вольнонаёмные женщины, готовящие арестантам пищу, колоть
дрова не соглашались, так как им за это отдельно не платили. Пробовали
посылать на эту работу надзирателей из отдыхающей смены, отрывая их от
домино в дежурной комнате. Надзиратели все были лбы, парни молодые, строго
отобранные по здоровью. Однако, за годы службы в надзорсоставе они как бы
разучились работать -- у них спину начинало быстро ломить, да и домино
притягивало их. Никак они не наготавливали дров, сколько нужно. И пришлось
начальнику тюрьмы сдаться: разрешить Сологдину и приходившим с ним другим
заключённым (чаще всего Нержину и Рубину) пилить и колоть без
дополнительного надзора. Впрочем, со сторожевой вышки их было видно как на
ладони, да ещё дежурным офицерам было вменено наглядывать за ними.
светом дня, из-за угла здания показалась круглая фигура дворника Спиридона в
ушастом малахае, одному ему таком выданном, и в бушлате. Дворник был тоже
зэк, но подчинялся коменданту института, а не тюрьме, и только чтобы не
ссориться, точил для тюрьмы пилу и топоры. По мере того, как он сейчас
приближался, Сологдин различал в его руках недостающую на месте пилу.
охраняемому пулемётами, бесконвойно. Ещё потому начальство решалось на эту
вольность, что у Спиридона один глаз вовсе не видел, а другой видел на три
десятых. Хотя здесь, на шарашке, по штату полагалось трое дворников, ибо
двор был -- несколько соединённых дворов, общей площадью два гектара, но
Спиридон, не зная того, за всех троих обмогался один, и ему не было плохо.
Главное -- он здесь ел [от пуза], хлеба чёрного не меньше килограмма
полтора, потому что с хлебом была раздолыцина, да и каши ему ребята
уступали. Спиридон здесь видимо посправнел и отмяк от СевУралЛага -- от трёх
зим лесоповала, да трёх вёсен лесосплава, где много тысяч брёвен он
перенянчил.
красноватой, было очень подвижно и часто выражало при ответе готовность, как
сейчас. Сологдин не знал, что слишком большая готовность у Спиридона
означала насмешку.
жалитесь. А ну, чиркнём разок!



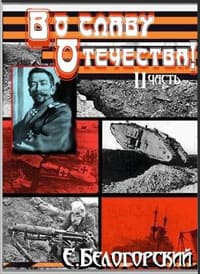


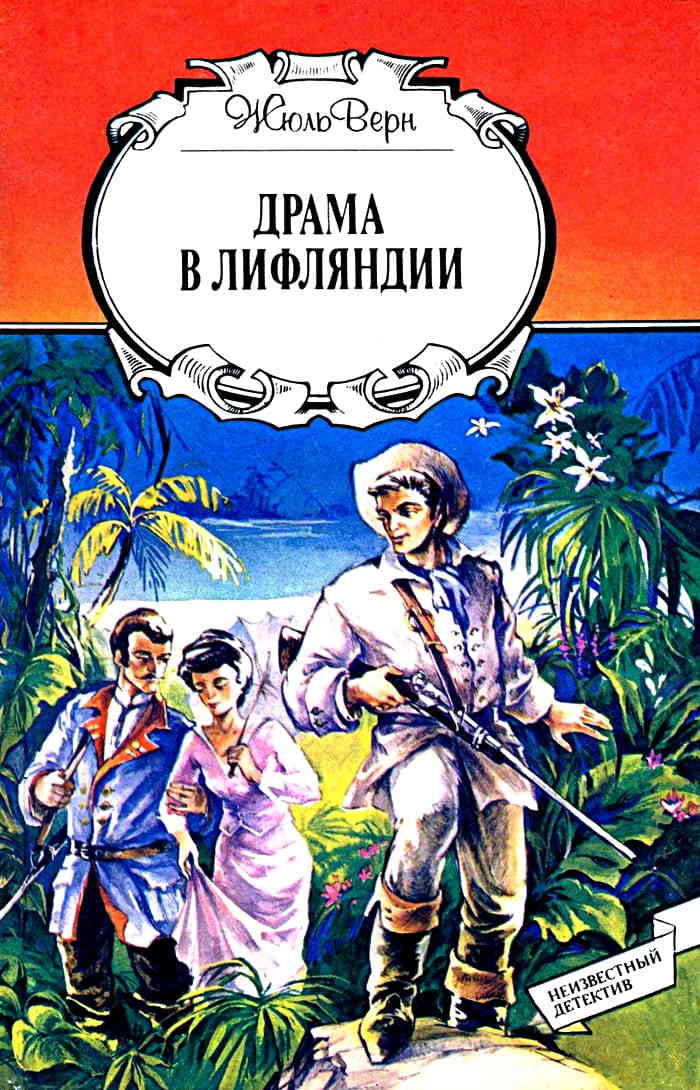 Жюль Верн
Жюль Верн Конан-Дойль Артур
Конан-Дойль Артур Бажанов Олег
Бажанов Олег Акунин Борис
Акунин Борис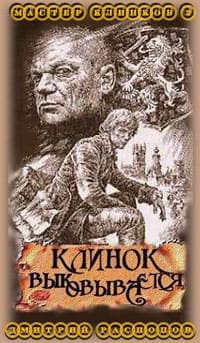 Распопов Дмитрий
Распопов Дмитрий Херберт Фрэнк
Херберт Фрэнк