а перед сном, самые же хмурые антисоветские высказывания приходятся на утро,
и потому особенно ценно следить за людьми около их постели.)
Рождество -- будто прикидывая, по сколько ватт там висят лампочки. И
надзирателя послал зайти по разу. И всех записал в списочек.
Особенно Мышина заинтересовало, что Рубин был с немцами. Он внёс этот факт в
папку.
кому из них больше пришлось отдежурить в прошлый раз и кто кому должен.
всех камер, гашения белого света и зажигания синего. Тут опять его вызвал
майор Мышин, который всё не шёл домой (дома у него жена была больна, и не
хотелось ему весь вечер слушать её жалобы). Майор Мышин сидел в кресле, а
Наделашина держал на ногах и расспрашивал, с кем, по его наблюдению, Рубин
обычно гуляет и не было ли за последнюю неделю случаев, чтоб он вызывающе
говорил о тюремной администрации или от имени массы высказывал какие-нибудь
требования.
начальников надзирательских смен. Его много и часто ругали. Его природная
доброта долго мешала ему служить в Органах. Если б он не приспособился,
давно был бы он отсюда изгнан или даже осуждён. Уступая своей естественной
склонности, Наделашин никогда не был с заключёнными груб, с искренним
добродушием улыбался им и во всякой мелочи, в какой только мог послабить --
послаблял. За это заключённые его любили, никогда на него не жаловались,
наперекор ему не делали и даже не стеснялись при нём в разговорах. А он был
доглядчив и дослышлив, и хорошо грамотен, для памяти записывал всё в особую
записную книжечку -- и материалы из этой книжечки докладывал начальству,
покрывая тем свои другие упущения по службе.
декабря шли заключённые гурьбой по нижнему коридору с обеденной прогулки --
и Наделашин след в след за ними. И заключённые бурчали, что вот завтра
воскресенье, а прогулки от начальства не добьёшься, а Рубин им сказал: "Да
когда вы поймёте. ребята, что этих гадов вы не разжалобите?"
донесением.
Поступив на работу в Марфино и узнав, что Рубин, бывший коммунист, всюду
похваляется, что остался им в душе, несмотря на [посадку,]- Мышин вызвал его
на беседу о жизни вообще и о [совместной работе] в частности. Но
взаимопонимания не получилось. Мышин поставил перед Рубиным вопрос именно
так, как рекомендовалось на инструктивных совещаниях:
нового срока;
карандашом?" -- "Да лучше чернилом", -- посоветовал Мышин. -- "Так вот я
свою преданность советской власти уже кровью доказал, а чернилами доказывать
-- не нуждаюсь."
что раз мол его посадили, значит ему оказали политическое недоверие, и пока
это так, он не может вести с оперуполномоченным совместную работу.
министерства госбезопасности пришла легковая машина за Бобыниным. Используя
такое счастливое стечение обстоятельств, Мышин как выскочил в кителе, так уж
не отходил от машины, звал приехавшего офицера погреться, обращал его
внимание, что сидит здесь ночами, торопил и дёргал Наделашина и на всякий
случай спросил самого Бобынина, тепло ли тот оделся (Бобынин нарочно надел в
дорогу не хорошее пальто, которое было ему тут выдано, а лагерную
телогрейку).
идти домой! Чтобы скрасить ожидание, кого ещё вызовут и когда вернутся,
майор пошёл проверять, как проводит время отдыхающая смена надзирателей (они
лупились в домино), и стал экзаменовать их по истории партии (ибо нёс
ответственность за их политический уровень). Надзиратели, хотя и считались в
это время на работе, но отвечали на вопросы майора с законной неохотой.
Ответы их были самые плачевные: эти воины не только не вспомнили по названию
ни одного труда Ленина или Сталина, но даже сказали, что Плеханов был
царский министр и расстреливал петербургских рабочих 9-го января. За всё это
Мышин выговаривал Наделашину, распустившему свою смену.
ничего рассказать майору, ушли спать. Разочарованный, а ещё больше
встревоженный, майор уехал на той же машине, чтобы не идти пешком: автобусы
уже не ходили.
спать, да и Наделашин метил вздремнуть вполглаза, но не тут-то было:
позвонил телефон из караульного помещения конвойной охраны, несшей службу на
вышках вкруг марфинского объекта. Начальник караула возбуждённо передал, что
звонил часовой юго-западной угловой вышки. В густившемся тумане он ясно
видел, как кто-то стоял, притаившись у угла дровяного сарая, потом пытался
подползти к проволоке предзонника, но испугался окрика часового и убежал в
глубину двора. Начальник караула сообщил, что сейчас будет звонить в штаб
своего полка и писать рапорт об этом чрезвычайном происшествии, а пока
просит дежурного по спецтюрьме устроить облаву во дворе.
заключённые надёжно заперты новыми железными дверьми в старинных прочных
стенах в четыре кирпича, но сам факт написания начкаром рапорта требовал и
от него энергичных действий и соответствующего рапорта. Поэтому он поднял по
тревоге отдыхающую смену и с фонарями "летучая мышь" поводил их по большому
двору, окутанному туманом. После этого сам пошёл опять по всем камерам и,
остерегаясь зажечь белый свет (чтобы не было лишних жалоб), а при синем
свете видя недостаточно, -- крепко ушиб колено об угол чьей-то кровати,
прежде чем, освещая головы спящих арестантов электрическим фонариком,
досчитался, что их -- двести восемьдесят одна.
отражающим прозрачность его души, рапорт о происшедшем на имя начальника
спецтюрьмы подполковника Климентьева.
подъём.
сказать Нержину, что не даром ест свой хлеб.
благодаря свежести безусого безбородого лица.
обслуживали средний люд, не брезговали и заказами перелицевать, перешить со
старшего на малого или подчинить, кому надо побыстрей. К тому ж
предназначали и мальчика. Ему с детства эта обходительная мягкая работа
понравилась, и он готовился к ней, присматриваясь и помогая. Но был конец
НЭПа. Отцу принесли годовой налог -- он его заплатил. Через два дня принесли
ещё годовой -- отец заплатил и его. С совершенным бесстыдством через два дня
принесли ещё один годовой -- уже утроенный. Отец порвал патент, снял вывеску
и поступил в артель. Сына же вскоре мобилизовали в армию, откуда попал он в
войска МВД, а позже переведен был в надзиратели.
или в четыре волны обгоняли и обгоняли его, иные стали уже теперь
капитанами, ему же лишь месяц назад со скрипом присвоили первую звёздочку.
эти заключённые, не имеющие прав людей, на самом деле часто бывали высшие,
чем он сам. И ещё, по свойству каждого человека представлять других
подобными себе, Наделашин не мог вообразить арестантов теми кровавыми
злодеями, которыми их поголовно раскрашивали во время политзанятий.
физики, пройденного в вечерней школе, он помнил каждый изгиб пяти тюремных
коридоров Большой Лубянки и внутренность каждой из её ста десяти камер. По
уставу Лубянки надзиратели менялись через два часа, переходя из одной части
коридора в другую (это делалось из предосторожности, чтобы они не
сознакомились со своими арестантами, не были ими уговорены или подкуплены;
впрочем, надзиратели оплачивались выше, чем преподаватели или инженеры). И в
каждый глазок надзиратель обязан был заглянуть не реже одного раза в три
минуты. Наделашину, при его исключительной памяти на лица, казалось: он
помнил всех до одного арестантов своего тюремного этажа с 1935 по 1947 год
(когда его оттуда перевели в Марфино) -- и знаменитых вождей, как Бухарин, и
простых фронтовых офицеров, как Нержин. Ему казалось: он любого из них узнал
бы теперь на улице в любой одежде -- только они не возвращались на улицы
никогда. Лишь здесь, в Марфино, он и встретил некоторых старых своих
подзамочных -- разумеется, не давая им понять, что узнал. Он помнил их
цепенеющими от насильственной бессонницы в ослепляюще-ярких [боксах]
площадью в квадратный метр; разрезающими ниткою четырёхсотграммовую сырую
хлебную пайку; углублёнными в старинные красивые книги, которыми изобиловала
тюремная библиотека; цепочкой выходящими на оправку; закладывающими руки за
спину при вызове на допрос; в повеселевших разговорах последние полчаса
перед отбоем; и лежащими зимнею ночью при ярком свете с руками поверх одеял,
укутанными для тепла полотенцами -- режим требовал будить тех, кто спрятал
руки под одеяло, и заставлять вынимать.


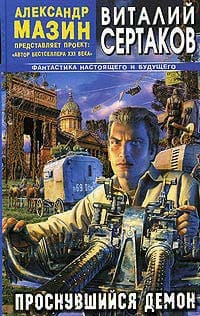
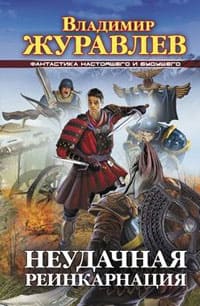
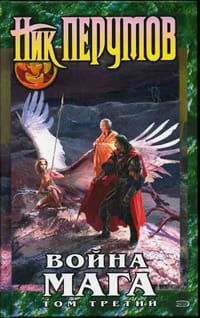

 Посняков Андрей
Посняков Андрей Березин Федор
Березин Федор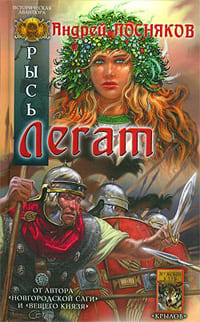 Посняков Андрей
Посняков Андрей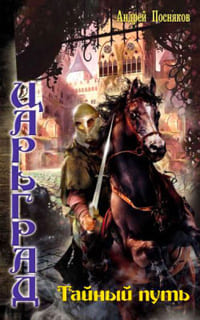 Посняков Андрей
Посняков Андрей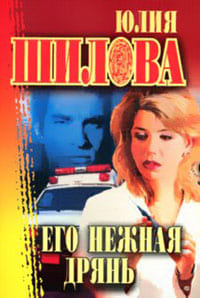 Шилова Юлия
Шилова Юлия Пехов Алексей
Пехов Алексей