-- Сталин, и никто другой. И одиночество ознобило его: взрослые мужчины,
столпленные рядом, не понимали такой простой вещи!
многословно поносили себя самыми последними ругательствами и признавались в
службе всем на свете иностранным разведкам. Это было так чрезмерно, так
грубо, так через край -- что в ухе визжало!
тротуаре сбивались доверчивыми овцами.
удручающе-приторно хвалословили тирана. А русские композиторы, воспитанные
на улице Герцена, толкаясь, совали к подножью трона свои угодливые
песнопения.
напомнить!
девушках, Глеб ходил мечтать, как он когда-нибудь проникнет в самую Большую
и самую Главную тюрьму страны -- и там найдёт следы умерших и ключ к
разгадке.
Лубянка.
оказалось совсем не легко и не приятно. Он был схвачен и привезен -- именно
[туда], и встретил тех самых, ещё уцелевших, кто не удивлялся его догадкам,
а имел в сотню раз больше, что рассказать.
времени, ни жизни, ни даже -- любви к жене. Ему казалось -- лучшей жены не
может быть для него на всей земле, и вместе с тем -- вряд ли он любил её.
Одна большая страсть, занявши раз нашу душу, жестоко измещает всё остальное.
Двум страстям нет места в нас.
улицам.
перед пристройкой к высокой тюрьме. В дверях уже стоял подполковник
Климентьев -- молодо, без шинели и шапки.
безветренная зимняя хмурь.
(только двое в задних углах всё так же сидели с пистолетами в карманах) -- и
арестанты, не имея времени оглянуться на главный корпус тюрьмы, перешли
вслед за подполковником в пристройку.
Подполковник шёл впереди и распоряжался решительно, как в сражении:
Нержину попал переодетый гангстер.
мало света ещё обрешеченное окно; кресло и стол следователя у окна;
маленький столик и табуретка подследственного.
себе взял неудобную маленькую табуретку со щелью, которая грозила защемить.
На подобной табуретке, за таким же убогим столиком, он отсидел когда-то
шесть месяцев следствия.
лёгкие каблучки жены, раздался её милый голос:
песке, увозил Надю с фронта -- а Глеб стоял вдали на просеке, и просека, всё
длиннее, темнее, уже, поглощала его -- кто бы сказал им, что разлука их не
только не кончится с войной, а едва лишь начинается?
месяцы перед концом: ведь осколки и пули не разбираются, сколько провоёвано
человеком.
друзьям, писала его начальникам -- все молчали, как заговоренные.
салюты, брали, брали, брали города -- Кенигсберг, Бреслау, Франкфурт,
Берлин, Прагу.
опускаться! Если он жив и вернётся -- он упрекнёт её в упущенном времени! И
всеми днями она готовилась в аспирантуру по химии, учила иностранные языки и
диалектический материализм -- и только ночью плакала.
бегали по безумным улицам. Кто-то стрелял из пистолетов в воздух. И все
динамики Советского Союза разносили победные марши над израненной, голодной
страной.
на аресты, государство было стыдливо на признания.
стало придумывать небылицы -- может быть заслан в глубокую разведку? Может
быть, выполняет [спецзадание]? Поколению, воспитанному в подозрительности и
секретности, мерещились тайны там, где их не было.
когда он вернётся.
нет на земле. И пришёл потрёпанный треугольник с Красной Пресни:
"Единственная моя!
осветилась, повеселела. Какое счастье, что не двадцать пять и не пятнадцать!
Только из могилы не приходят, а с каторги возвращаются! В новом положении
была даже новая романтическая высота, возвышавшая их прежнюю рядовую
студенческую женитьбу.
а только была петля на шее -- новые силы прихлынули к Наде. Он был в Москве
-- значит, надо было ехать в Москву и спасать его! (Представлялось так, что
достаточно оказаться рядом, и уже можно будет спасать.)
особенно -- в Москву. Сперва, как и в тридцатые годы, гражданин должен был
документально доказать, зачем ему не сидится на месте, по какой служебной
надобности он вынужден обременить собою транспорт. После этого ему
выписывался пропуск, дававший право неделю таскаться по вокзальным очередям,
спать на заплёванном полу или совать пугливую взятку у задних дверец кассы.
переплатив на билете втрое, самолётом улетела в Москву, держа на коленях
портфель с учебниками и валенки для ожидавшей мужа тайги.
помогают нам, и всё нам удаётся. Высшая аспирантура страны приняла
безвестную провинциалочку без имени, без денег, без связей, без телефонного
звонка...
пересылке Красная Пресня! Свидания не дали. Свиданий вообще не давали: все
каналы ГУЛага были перенапряжены -- лился из Европы поток арестантов,
поражавший воображение.
свидетелем, как из деревянных некрашенных ворот тюрьмы выводили колонну
арестантов на работу к пристани у Москва-реки. И мгновенным просветлённым
загадыванием, которое приносит удачу, Надя загадала: Глеб -- здесь!
когда человек расстаётся со своей "вольной" одеждой и вживается в
серо-чёрную трёпаную одежду зэка. У каждого оставалось ещё что-нибудь,
напоминавшее о прежнем: военный картуз с цветным околышем, но без ремешка и
звёздочки, или хромовые сапоги, до сих пор не проданные за хлеб и не отнятые
урками, или шёлковая рубашка, расползшаяся на спине. Все они были наголо
стрижены, кое-как прикрывали головы от летнего солнца, все небриты, все
худы, некоторые до изнурения.
Глеба: он шёл с расстёгнутым воротником в шерстяной гимнастёрке, ещё
сохранившей на обшлагах красные выпушки, а на груди -- невылинявшие
подорденские пятна. Он держал руки за спиной, как все. Он не смотрел с горки
ни на солнечные просторы, казалось бы столь манящие арестанта, ни по
сторонам -- на женщин с передачами (на пересылке не получали писем, и он не
знал, что Надя в Москве). Такой же жёлтый, такой же исхудавший, как его
товарищи, он весь сиял и с одобрением, с упоением слушал соседа --
седобородого статного старика.
за разговором и заливистым лаем охранных собак. Она, задыхаясь, бежала,



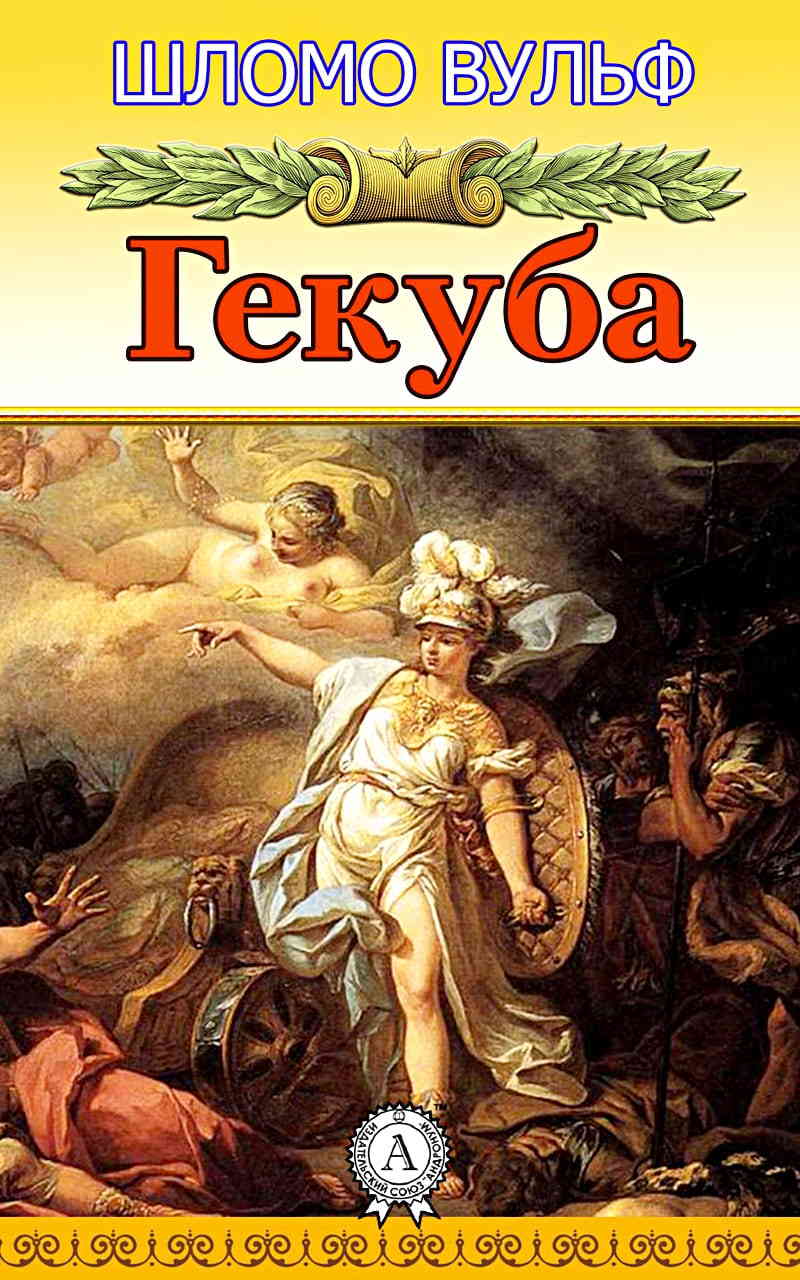

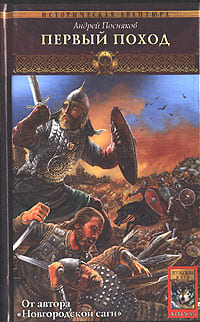
 Сапковский Анджей
Сапковский Анджей Якубенко Николай
Якубенко Николай Марко Джон
Марко Джон Шилова Юлия
Шилова Юлия Шилова Юлия
Шилова Юлия Ларссон Стиг
Ларссон Стиг