кончил десятилетку, когда американцы из посольства сняли в их деревне дачу.
Руська и два его товарища имели неосторожность (ну, и любопытство тоже) раза
два удить с американцами рыбу. Всё сошло как будто благополучно, Руська
поступил в Московский университет, но в сентябре его арестовали -- тайком,
на дороге, так что мать долго не знала, куда он делся. (Оказывается, МГБ
всегда старается арестовать человека так, чтоб он ничего не успел спрятать и
чтобы близкие не могли от него получить пароль или знак.) Его посадили на
Лубянку (Клара даже это название тюрьмы услышала впервые в Марфине).
Началось следствие.
разведки, на какую явочную квартиру должен был передать. По собственному
выражению, Руська был ещё телёнок и только недоумевал и плакал. И вдруг
случилось диво: с Лубянки, откуда никого добром не выпускают, -- Руську
выпустили.
презрев последние правила бдительности и даже границы приличия, она открыто
села рядом с Ростиславом у его тихо погуживающего малого насоса -- и беседа
их возобновилась.
большое яблоко. Им было уже странно, что за столько месяцев они не
разговорились. Они едва успевали высказываться. Перебивая её в нетерпеньи,
он уже касался её рук -- и она не видела в этом плохого. А когда все ушли на
перерыв -- вдруг новый смысл снизошёл на то, что плечо у них было к плечу и
рука касалась руки. Прямо перед собой Клара увидела вомлевшие в неё
ярко-голубые глаза.
чудо! Я поклоняюсь вам! (Он уже сжимал и ласкал её руки.) -- Клара! Мне,
может быть, всю жизнь погибать по тюрьмам. Сделайте меня счастливым, чтоб я
в любой одиночке мог согреваться этой минутой! Дайте мне поцеловать вас!!
притянул её и отпечатлел на её губах поцелуй разрушительной силы, поцелуй
измученного воздержанием арестанта. И она отвечала ему...
потрясённая...
Клару -- и его как укачнуло туда, за дверь.
разгоралось -- но не стыд совсем, а если радость -- то не покойная.
разноцветных хлорвиниловых проводков -- корзиночку, подарок на ёлку.
чёртиков, как бы с винтовками, связал клетку из стеклянных прутков, а в ней
подвесил на серебряной ниточке стеклянный же грустно позвенивающий ясный
месяц.
перед обедом, когда семеро заключённых ступили из голубого автобуса на
прогулочный Дворик шарашки, -- первые нетерпеливые снежинки кое-где
пролетали по одной.
рукав старой фронтовой порыжевшей шинели. Он остановился посреди двора и
глубоко заглатывал воздух.
сейчас не прогулочное и надо зайти в здание.
рассказывать о свидании, ни с кем делиться, искать ничьего участия. Ни
говорить. Ни слушать. Хотелось быть одному и медленно-медленно протягивать
через себя всё это внутреннее, что он привёз, пока оно ещё не расплылось, не
стало воспоминанием.
Всегда везде были камеры, и купе [вагон-заков], и теплушки телячьих вагонов,
и бараки лагерей, и палаты больниц -- и всюду люди, люди, чужие, и близкие,
тонкие и грубые, но всегда люди, люди.
потом подвальный коридор), Нержин остановился и задумался -- куда ж идти?
составленные там в опрокидку ломаные стулья, он стал подниматься на глухую
площадку третьего этажа.
К основной работе шарашки он не имел никакого отношения, содержался же тут в
качестве крепостного живописца: вестибюли и залы Отдела Спецтехники были
просторны и требовали украшения их картинами. Менее просторны, зато более
многочисленны были собственные квартиры замминистра, Фомы Гурьяновича и
других близких к ним работников, и ещё более настоятельной необходимостью
было -- украсить все эти квартиры большими, красивыми и бесплатными
картинами.
писал хотя большие, хотя бесплатные, но [не красивые]. Полковники и
генералы, приезжавшие осматривать его галерею, тщетно пытались ему
втолковать, как надо рисовать, какими красками, и со вздохом брали то, что
есть. Впрочем, вправленные в золочёные рамы, картины эти выигрывали.
Отдела Спецтехники -- "А.С. Попов показывает адмиралу Макарову первый
радиотелеграф", вывернул на последний марш лестницы и, ещё прежде, чем
самого художника, увидел прямо вверху, на глухой стене под потолком --
"Изувеченный Дуб", двухметровой высоты картину, тоже законченную, которую,
однако, никто из заказчиков не хотел брать.
укреплены на мольбертах. Свет сюда давали два окна -- одно с севера, другое
с запада. И сюда же, на лестничную площадку, выходило решёткой и розовой
занавеской оконце Железной Маски, не дотянувшееся до божьего света.
стойком, повыше и пониже.
сырость, телогрейка Кондрашёва-Иванова лежала на полу, а сам он, вылезающий
руками и ногами из своего недостаточного комбинезона, неподвижно стоял,
длинный, негнущийся, и как будто не мёрз. Большие очки, укрупнявшие и
устрожавшие его лицо, прочно держались за уши, приспособленные к постоянным
резким поворотам Кондрашёва. Взгляд его был упёрт в картину. Кисть и палитру
он держал в опущенных на всю длину руках.
молчании.
непомерным восторгом, такая привычка у него была, воскликнул:
но и разрушает его распорядок.
шёпотом, будто ещё кого-то третьего боялся здесь разбудить:
может уже по глазам заметив или вспомнив, что Нержин ездил на свидание. И
отступил, как бы раскланиваясь и показывая кистью и палитрой на чурбачок.
опустился на чурбак, откинулся к балясинам перил и -- очень ему хотелось
закурить! -- не закурил.
прощанье касался её рук, шеи, волос.
них созрел). И по самое горлышко -- забот об общественном благе. Кажется --
афинский гражданин, идеал человека.
остальной мир.
праздничным звоном.
жены. Она казалась сплетённой из одних достоинств. Из верности.
поцелуя никак уже не добрать.
сказала о разводе.





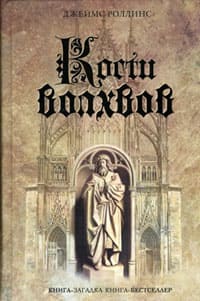
 Контровский Владимир
Контровский Владимир Корнев Павел
Корнев Павел Махров Алексей
Махров Алексей Шилова Юлия
Шилова Юлия Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий Афанасьев Роман
Афанасьев Роман