собственному опыту, слух -- это важнейшее чувство арестанта. Зрение
арестанта обычно ограничено стенами и намордником, обоняние насыщено
недостойными ароматами, осязанию нет новых предметов. Зато слух развивается
необыкновенно. Каждый звук даже в дальнем углу коридора тотчас же
опознаётся, истолковывает происходящие в тюрьме события и отмеряет время:
разносят ли кипяток, водят ли на прогулку или принесли кому-то передачу.
переборка, и в коридор вошло много людей. Слышался их сдержанный говор,
шаги, заглушаемые коврами, потом выделились голоса женщин, шорох юбок, и у
самой двери 72-й камеры начальник Бутырской тюрьмы приветливо сказал:
какую-нибудь камеру. Ну, какую же? Ну, первую попавшуюся. Например, вот
72-ю. Откройте, сержант.
двух почтенных матрон из среды квакеров, начальника тюрьмы и нескольких лиц
в гражданской одежде и в форме МВД. Капитан же в белых перчатках отошёл в
сторону. Вдова президента, женщина тоже передовая и проницательная, много
сделавшая для защиты прав человека, госпожа Рузвельт задалась целью посетить
доблестного союзника Америки и увидеть своими глазами, как распределяется
помощь ЮНРРА (Америки достигли зловредные слухи, будто продукты ЮНРРА не
доходят до простого народа), а также -- не ущемляется ли в Советском Союзе
свобода совести. Ей уже показали тех простых советских граждан (переодетых
партработников и чинов МГБ), которые в своих грубых рабочих спецовках
благодарили Соединённые Штаты за бескорыстную помощь. Теперь госпожа
Рузвельт настояла, чтоб её провели в тюрьму. Желание её исполнилось. Она
уселась в одно из кресел, свита устроилась вокруг, и начался разговор через
переводчика.
Эола шевелило занавеси.
застигнутой врасплох, была такая удивительная белизна, полное отсутствие
мух, и, несмотря на будний день, в святом углу теплилась лампада.
вопрос высокой гостьи, неужели, щадя чистоту воздуха, никто из заключённых
даже не курит, -- один из них с развязным видом встал, распечатал коробку
"Казбека", закурил сам и протянул папиросу товарищу.
это яд.
"Америка", почему-то очень торопливо.
читает журнал? -- спросила высокая гостья.
американским туристом.)
русскую деревню и, простите, изнасиловал трёх русских крестьянок. Число
убитых им младенцев не поддаётся учёту.
честного труда.
судорожной поспешностью читать журнал.
большим перламутровым крестом на груди -- очевидно, с очередным обходом, и
очень был смущён, застав в камере начальство и иностранных гостей.
она попросила его выполнять свой долг. Священник тут же всучил одному из
растерявшихся арестантов карманное Евангелие, сам сел на кровать ещё к
одному и сказал окаменевшему от удивления:
Господа нашего Иисуса Христа.
заключённым вопрос -- нет ли у кого-нибудь из них жалоб на имя Организации
Объединённых Наций?
захотели?
возмущённо загалдели:
искренние выкрики и с тем большим интересом выслушала перевод:
просят рассмотреть этот вопрос в ООН.
момент дежурный по коридору доложил начальнику тюрьмы, что принесли обед.
Гостья попросила, не стесняясь, раздавать обед при ней. Распахнулась дверь,
и хорошенькие молоденькие официантки (кажется, те самые переодетые
кастелянши), внеся в судках обыкновенную куриную лапшу, стали разливать её
по тарелкам. Во мгновение словно порыв первобытного инстинкта преобразил
благообразных арестантов: они вспрыгнули в ботинках на свои постели, поджали
колени к груди, оперлись ещё руками около ног и в этих собачьих
телоположениях с оскаленными зубами зорко наблюдали за справедливостью
разливки лапши. Дамы-патронессы были шокированы, но переводчик объяснил им,
что таков русский национальный обычай.
ложками. Они уже вытащили откуда-то свои облезлые деревянные, и едва лишь
священник благословил трапезу, а официантки разнесли тарелки по постелям,
предупредив, что на столе -- блюдо для сбрасывания костей, -- единовременно
раздался страшный втягивающий звук, затем дружный хруст куриных костей -- и
всё, наложенное в тарелки, навсегда исчезло. Блюдо для сбрасывания костей не
понадобилось.
встревоженная гостья. -- Может быть, они хотят ещё?
добавит".
мире, миссис Рузвельт со всею свитой вышла в коридор и там сказала:
надеяться, однако, что за десять лет они приучатся здесь к культуре. У вас
великолепная тюрьма!
дверь.
сапога дополнительно разъяснял отстающим.
разрешение писать мемуары и, пока все спали, с утра уже накатал две главы:
"Как меня пытали" и "Мои лефортовские встречи".
следственное дело -- о подлой клевете на органы госбезопасности.
множество стальных дверей в предбанник, всё так же переливавшийся своею
вечной малахитово-рубинной красотою. Там с них снято было всё, вплоть до
шёлкового голубого белья и произведен был особо-тщательный обыск, во время
которого у одного зэка под щекой нашли вырванную из Евангелия нагорную
проповедь. За это он тут же был бит сперва в правую, а потом в левую щеку.
Ещё отобрали у них коралловые губки и "Фею сирени", в чём опять-таки
заставили каждого расписаться.
стали выстригать арестантам лобки, потом теми же машинками -- щёки и темени.
Наконец, в каждую ладонь влили по 20 граммов жидкого вонючего заменителя
мыла и заперли всех в бане. Делать было нечего, арестанты ещё раз помылись.
фиолетовый вестибюль. Две старые женщины, служанки ада, с громом выкатили из
прожарок вагонетки, где на раскалённых крючках висели знакомые нашим героям
лохмотья.
пятьдесят их товарищей, сгорая от любопытства узнать о происшедшем. Окна
вновь были забиты намордниками, голубки закрашены тёмно-оливковой краской, а
в углу стояла четырехведерная параша.
ещё приличные хромовые сапоги, натянув подглаженное, бывшее своё парадное,
обмундирование с привинченными начищенными орденами, с пришитыми нашивками
ранений (увы, мода на военную форму катастрофически устаревала в Москве, и
скоро предстояло Щагову вступить в нелёгкое состязание по костюмам и
ботинкам) -- поехал в другой конец города на Калужскую заставу, куда был
зван через своего фронтового знакомца Эрика Саунькина-Голованова на
торжественный вечер в семью прокурора Макарыгина.



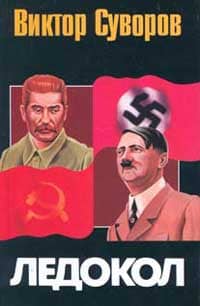


 Афанасьев Роман
Афанасьев Роман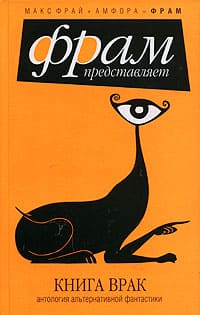 Афанасьев Роман
Афанасьев Роман Куликов Роман
Куликов Роман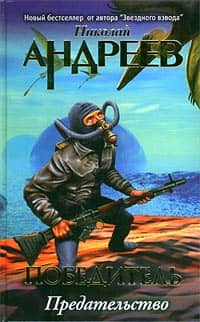 Андреев Николай
Андреев Николай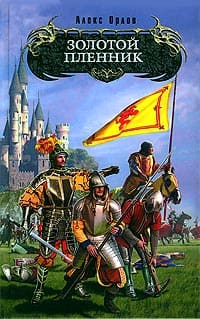 Орлов Алекс
Орлов Алекс Акунин Борис
Акунин Борис