и жалилась не всерьёз, отчаялась давно. И двугривенных последних не лишала.
когда закрыли ставни -- успокоительное отделение от мира, потерянное нашим
веком. Каждая ставня прижималась железной полосою, а от неё болт через
прорезь просовывался в дом, и здесь его проушина заклинивалась костыльком.
Не от воров это надобилось им, тут бы и через распахнутые окна нечем
поживиться, но при запертых болтах размягчалась настороженность души. Да им
бы нельзя иначе: тротуарная тропка шла у самых окон, и прохожие как в
комнату входили всякий раз своим топотом, говором и руганью.
и тихо говоря (слышал он тоже безущербно), открыл племяннику ещё одну свою
тайну: эти жёлтые газеты, во много слоев навешенные будто от солнца или от
пыли -- это был способ некриминального хранения самых интересных старых
сообщений. ("А почему вы [именно эту] газету храните, гражданин?" -- "А я её
не храню, какая попалась!") Нельзя было ставить пометок, но дядя на память
знал, что в каждой искать. И удобной стороной они были повешены, чтобы
каждый раз не разнимать пачку. Ставши на два стула рядом, дядя в очках, они
над печкой прочли в газете 1940 года у Сталина: "Я знаю, как германский
народ любит своего фюрера, поэтому я поднимаю тост за его здоровье!" А в
газете 1924 года на окне Сталин защищал "верных ленинцев Каменева и
Зиновьева" от обвинений в саботаже октябрьского переворота.
лампочке они бы долго ещё лазали и шелестели, разбирая выблекшие полустёртые
строчки, но по укорному кашлю жены за стеной дядя смешался и сказал:
много. И скажи, почему так дорого за электричество берут? Сколько ни строим
электростанций -- не дешевеет.
Иннокентию было постлано, а дядя сел к нему на постель, они шёпотом ещё часа
два проговорили с захваченностью влюблённых, которым не нужно освещения для
воркотни.
без дребезга ничем не выявлял старика. -- Никакое правительство,
ответственное за свои слова... "Мир народам, штык в землю!" -- а через год
уже "Губдезертир" ловил мужичков по лесам да расстреливал напоказ! Царь так
не делал... "Рабочий контроль над производством" -- а где ты хоть месяц
видел рабочий контроль? Сразу всё зажал государственный центр. Да если б в
семнадцатом году сказали, что будут нормы выработки и каждый год
увеличиваться -- кто б тогда за ними пошёл? "Конец тайной дипломатии, тайных
назначений" -- и сразу гриф "секретно" и "совсекретно". Да в какой стране,
когда знал народ о правительстве меньше, чем у нас?
уже толковал дядя, что всю войну 41-го года во всех областных городах
простояли крупные гарнизоны НКВД, не шевелимые на фронт. А царь всю гвардию
перемолол, внутренних войск против революции не имел. А бестолковое
Временное и вовсе никакими войсками не владело.
до чего без диалога никогда не доходила надобность:
потеряли. Она окончательно стала вотчиной Усача.
чего? Чтобы крепче затянуть на себе петлю. Самая несчастная война в русской
истории...
девятисот, он не был полномочен и никак не мог утверждать Совнарком.
дверь открытой, душновато, -- но тут про атомную бомбу почему-то всплыло, и
он вернулся, шептал яро:
будет испытание первой бомбы.
Такой промышленности у них нет, двадцать лет делать надо.
войну не смеют.
гибель. Война страшна не продвижением войск, не пожарами, не бомбёжками --
война прежде всего страшна тем, что отдаёт всё мыслящее в законную власть
тупоумия... Да впрочем, у нас и без войны так. Ну, спи.
обойденные сегодня. Утром, уходя на рынок, дядя снял две газетных пачки, и
Иннокентий, уже зная, что вечером не почитаешь, спешил смотреть их при
дневном свете. Высушенные пропыленные листы неприятно осязались, противный
налёт оставался на подушечках пальцев. Сперва он их мыл, оттирал, потом
перестал замечать налёт, как перестал замечать все недостатки дома, кривые
полы, малый свет оконок и дядину обтрёпанность. Чем давнее год, тем дивнее
было читать. Он уже знал, что и сегодня не уедет.
вспоминал студенческие годы, философский факультет и весёлое шумное
студенческое революционерство, когда не было места интереснее тюрьмы. А к
партии он никогда не примкнул ни к какой, видя во всякой партийной программе
насилие над волей человека и не признавая за партийными вождями пророческого
превосходства над человечеством.
больницу, про всеобщую огрызливую ожесточённую жизнь.
и оттуда, при керосиновой лампе -- сюда проводки не было, вынимал
пронафталиненные тёплые вещи, и просто тряпьё. И, подняв лампу, показал
племяннику своё сокровище на дне: крашеное гладкое дно устилала "Правда"
второго дня октябрьского переворота. Шапка была: "Товарищи! Вы своею кровью
обеспечили созыв в срок хозяина земли Русской -- Учредительного Собрания!"
их выберут.
отец его Артём был средь главных сухопутных матросов, разогнавших поганую
[учредилку], а дядя Авенир -- манифестант в поддержку заветного
Учредительного.
мягкий пасмурный зимний день без ветра и снегопада, так что у многих
раскрыты были груди из-под шуб. Очень много студентов, гимназистов,
барышень. Почтовики, телеграфисты, чиновники. И просто отдельные разные
люди, как дядя. Флаги -- красные, флаги социалистов и революции, один-два
кадетских бело-зелёных. А другая манифестация, от заводов Невской стороны --
та вся социал-демократическая и тоже под красными флагами.
чтобы не раздражать Раису Тимофеевну. Дом был закрыт и тревожно тёмен, как
все дома России в глухое потерянное время раздоров и убийств, когда
прислушивались к уличным грозным шагам и выглядывали в щёлки ставен, если
была луна.
сплочены -- и такое месиво темноты внутри, что только через распахнутую
дверь слабый боковой из коридора отсвет дворового незагороженного окна
позволял отличить от ночи не контуры дядиной головы, а иногда лишь её
движения. Не поддержанный блистаньем глаз, ни мукой лицевых складок, тем
безвозрастней и убеждённей внедрялся дядин голос:
если хочешь даже и не понимали: что это будет единственный день
единственного русского свободного парламента -- на пятьсот лет назад, на сто
лет вперёд. И кому ж этот парламент был нужен? -- сколько нас изо всей
России набралось? Тысяч пять... Стали по нас стрелять -- из подворотен, с
крыш, там уже и с тротуаров -- и не в воздух стрелять, а прямо в открытые
груди... С упавшим выходило двое-трое, остальные шли... От нас никто не
отвечал, и револьвера ни у кого не было... До Таврического нас и не
допустили, там густо было матросов и латышских стрелков. Латыши выправляли
нашу судьбу, что с Латвией будет -- они не догадывались... На Литейном
красногвардейцы перегородили дорогу: "Расходитесь! На панель!" И стали
пачками стрелять. Одно красное знамя красногвардейцы вырвали... ещё тебе о
тех красногвардейцах бы рассказать... древко сломали, знамя топтали...
Кто-то рассеялся, кто-то бежал назад. Так ещё в спину стреляли и убивали.
Как легко этим красногвардейцам стрелялось по мирным людям и в спину, ты
подумай -- ведь ещё никакой гражданской войны не было! А нравы -- уже были
готовы.
даже шептать нельзя.
расстреливали? Потому что -- калединская!.. Что в нас было калединского?
Внутренний противник -- это не всем понятно: ходит среди нас, говорит на
нашем языке, требует какой-то свободы. Надо обязательно отделить его от нас,
связать его с внешним врагом -- и тогда легко, хорошо в него стрелять.




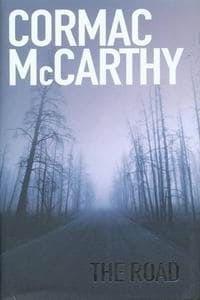

 Лукин Евгений
Лукин Евгений Марко Джон
Марко Джон Конюшевский Владислав
Конюшевский Владислав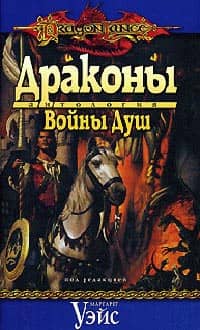 Грабб Джеф
Грабб Джеф Мацумото Сэйте
Мацумото Сэйте Соломатина Татьяна
Соломатина Татьяна