Юрий Трифонов.
Предварительные итоги
сделалась невыносимой, номер накалялся с одиннадцати часов и не
остывал до рассвета, у меня начались одышки, головокружения,
одна ночь была ужасной, и я, промучившись эту ночь бессонницей,
стеснением в груди и страхом смерти, к утру смалодушничал и
позвонил в Москву. Был девятый час, значит, в Москве седьмой. Я
услышал испуганный голос Риты: "Что с тобой?" Через секунду
вспомнив о том, как я себя вел, она заговорила спокойнее и
суше, даже с ноткой недовольства: зачем звонить в такую рань,
если ничего страшного не случилось? Но ведь я позвонил в
седьмом часу! После почти двухмесячного молчания. Это
что-нибудь да значило. Могло значить -- бедствие, желание
примириться, раскаяние, тоску, что угодно, и все, вместе
взятое. Но она тут же успокоилась, когда я сказал: "Ничего
страшного, просто жара, тридцать четыре в тени, и я хочу
прилететь сегодня или завтра, как достану билет". Она сказала:
"Ну, прилетай. У тебя что, давление поднялось?" Я сказал, что
не мерил, но, наверное, поднялось. Получил совет принимать
раувазан и показаться врачу прежде, чем брать билет. Совет был
разумный, я согласился. В общем, была сделана глупость: если уж
возвращаться, то безо всяких звонков. Ночной перепуг. Нечто
старческое. Вот это меня больше всего и огорчило. Однако
улетать отсюда немедленно я решил твердо.
что устроит меня в Тохир, что там чудесно, прохладно, можно
спокойно работать, можно отдыхать, как в магометанском раю. При
этом Мансур подмигивал, его широкое рябое лицо намекало на
что-то, и он делал большим пальцем правой руки загадочные
жесты, имеющие целью заинтриговать, но я-то знал, что ему
главное -- чтоб я не уехал, не закончив работы. Какой уж там
магометанский рай! Вода с перебоями, сортир во дворе, а вместо
райских гурий -- несколько пенсионерок из профсоюзного
санатория.
улететь. Я ехал в Тохир на старом, дребезжащем, как
разболтанный велосипед, допотопном ЗИМе. Его где-то списали за
допотопность и ветхость; Мансур приобрел этот катафалк для
своего учреждения, и я, кажется, догадываюсь почему. Не
последнюю роль тут сыграли пыльные, но чрезвычайно просторные
сиденья: на них можно было лечь втроем, вчетвером, раскинуть
скатерть и даже положить целую тушку джейрана. Я сидел на
барском сиденье, дышал горячим ветром, бившим в лицо, ощущая в
то же время не истребимую никакими сквозняками пыль и легкий
запах духов -- катафалк с хорошей скоростью мчался по шоссе на
юг, -- и представлял себе, как Рита сейчас мечется по Москве,
не зная, что предпринять. Мой звонок, конечно, выбил ее из
колеи. Матери она не скажет, а Кириллу, может быть, и
обмолвится с чувством некоторого торжества: "Звонил отец.
По-моему, подбрасывает хвост", на что мудрый сыночек, которому
все совершенно все равно, скажет: "А я что говорил? Я ж
говорил, что он больше двух месяцев не продержится".
Советоваться она побежит к какой-нибудь из подруг, скорее всего
к Ларисе. Дружба с Ларисой мне представляется постыдной,
несколько раз я пытался открыть Рите глаза, увещевал, требовал,
бывал с Ларисой намеренно груб по телефону и даже дома, когда
она появлялась, -- никакого успеха. Рита не хотела видеть
правды и, в своей манере, действовала назло, а Лариса прощала
мне самый оскорбительный тон и отвечала лестью и шуточками.
Вначале, когда дружба лишь зародилась -- дамы познакомились в
Ессентуках лет семь назад, -- Рита отзывалась о Ларисе с
простодушным восторгом. Поразительная женщина, как она умеет
жить! Идеальные отношения с мужем, идеальные -- со свекровью,
идеальные -- на работе. При этом мужа рогатит почем зря,
свекровь глубочайшим образом презирает, а на работе
устраивается так, что ни фига не делает, то берет работу на
дом, то у нее свободные дни, то командировки. Работает Лариса
вот уже десять лет в каком-то комбинате каким-то инженером по
реализации. Тогда еще Рита относилась к этим милым качествам
своей приятельницы хоть и с восторгом, но как к чему-то
далекому и чужому, поражалась со стороны, иногда даже с юмором
и не без тайной горделивости: а я вот так не могу! Тогда она
говорила: "Лариса -- это не подруга, это -- учреждение.
Ларисбюро. Все может организовать". Верно, диапазон гигантский:
рейтузы шерстяные, билеты на Райкина, путевки, курортные карты,
встречи с нужными людьми, до которых обыкновенным смертным
просто так не дорваться. Постепенно, однако, учреждение
превращалось в подругу. Что-то я упустил, проворонил, и теперь,
когда мне в сущности все равно, они -- закадычнейшие подруги.
Созданы друг для друга. Сейчас, например, советуются: как быть?
доме-башне у Сокола, пьют кофе из болгарских чашечек и говорят
о моем здоровье. Обе в курсе дела. Два года назад, когда меня
шлепнул гипертонический криз -- летом, в электричке, ехали на
дачу в Хотьково, и вдруг я поплыл, стал задыхаться, выскочили
на первой же станции, в медпункт, Рита проявила мужество,--
Лариса устроила мне некоего Печенега А. Её знаменитость. К нему
в клинике стоят по два месяца в очереди, только чтоб
записаться, а она притащила его запросто домой, чаем угощала и
пластинки мои французские ему крутила, чаровала, как могла. Не
знаю уж, что у нее за чары. Но что-то есть. Как женщина она, на
мой взгляд, непривлекательна: толста, малоросла, посадка
низкая. Но лицо миловидное, круглое, и глаза всегда блестят,
лучатся. Этакая протобестия с румяными щечками, не скажешь, что
сорок лет. О, господи, при чем тут Лариса? Какое мне дело до
Ларисы? С мозгами что-то неладно. От жары, от давления и от --
ну, конечно же! -- оттого, что разваливаюсь на ходу, по болтам,
по железкам, как темно-фиолетовый катафалк. Не Лариса же
виновата в том, что случилось девятнадцатого марта.
внимает. "Александр Ефимович мне сказал, антр ну, как
говорится, что с таким сердцем, как у Геннадия, можно прожить
сто лет. Вот так. Чтоб ты знала".-- "Я знаю. Он говорил мне то
же самое. Но если Геннадий позвонил... Ты представляешь, с его
самолюбием?" -- "Ритуля, до чего ж ты наивна!" -- "Я понимаю,
но все же..." -- "Только не раскисай, пожалуйста. Прилетаешь?
Хорошо. Болен? Будем лечить, достанем лекарства. Устроим
хорошую больницу, если нужно. Но болезнь, к сожалению, не может
зачеркнуть того, что ты натворил, тех страданий, которые ты
причинил. За все надо платить, мой дорогой. И пока ты не
поймешь... Линия, по-моему, должна быть только одна".-- "Ты так
считаешь?"-- спрашивает Рита. "А как же иначе!"-- говорит
Лариса, изумляясь и возмущаясь одновременно тем, что могут быть
какие-либо сомнения.
случаю воскресенья Цебриков, муж Ларисы, натирает паркет.
Делает это так рьяно, с таким увлечением, что можно не
опасаться визита на кухню. Вообще Цебриков превосходный хозяин
и замечательный муж: чуть выдастся свободная минутка -- он
тотчас за совок, за веник, начинает мести ковер, а то полощет
чашки, пылесосит диван или же затеет маленькую постирушку.
Лариса достает из холодильника бутылку армянского, слегка
початую, две рюмки из шкафчика. "Витасик! -- стучит в стену.--
Хочешь рюмку коньяку?" -- "Не-ет! -- Бодрый крик сквозь шум
мотора.-- Возьмите лимон, я купил утром! Только ошпарьте
кипятком!"
полночь, я думал: если уж дома, в своем скворечнике, в том, до
чего никому нет дела, кроме меня, я не могу быть независимым,
не имею права совершать поступки, тогда я ничтожество,
насекомое.
на юг, где кончается пустыня и начинаются горы. Когда-то
местечко принадлежало персам. У некоего хана, как рассказывает
Атабалы, была очень красивая дочь Тохира, и в ее честь хан
назвал местечко Тохир,
как в другой стране; воздух прохладен, дуют ветры, шумят
деревья. Когда выйдешь на улицу -- она одна в поселке, длинная,
полого спускающаяся в тени вековых тополей и чинар, -- слышно,
как, не умолкая, с чеканным клекотом бежит вода в арыке. Первое
время, слыша этот клекот, я невольно оглядывался, ища глазами:
казалось, где-то шумит водопад.
глинобитных домиков. Один полуразрушен, другой превращен в
сарай: Атабалы держит в нем свои мотыги и грабли. Из окна
комнаты я вижу это бывшее шахское владение из кизяка и думаю:
"Also, sprach Zarathusta". У меня есть пристрастие к цитатам,


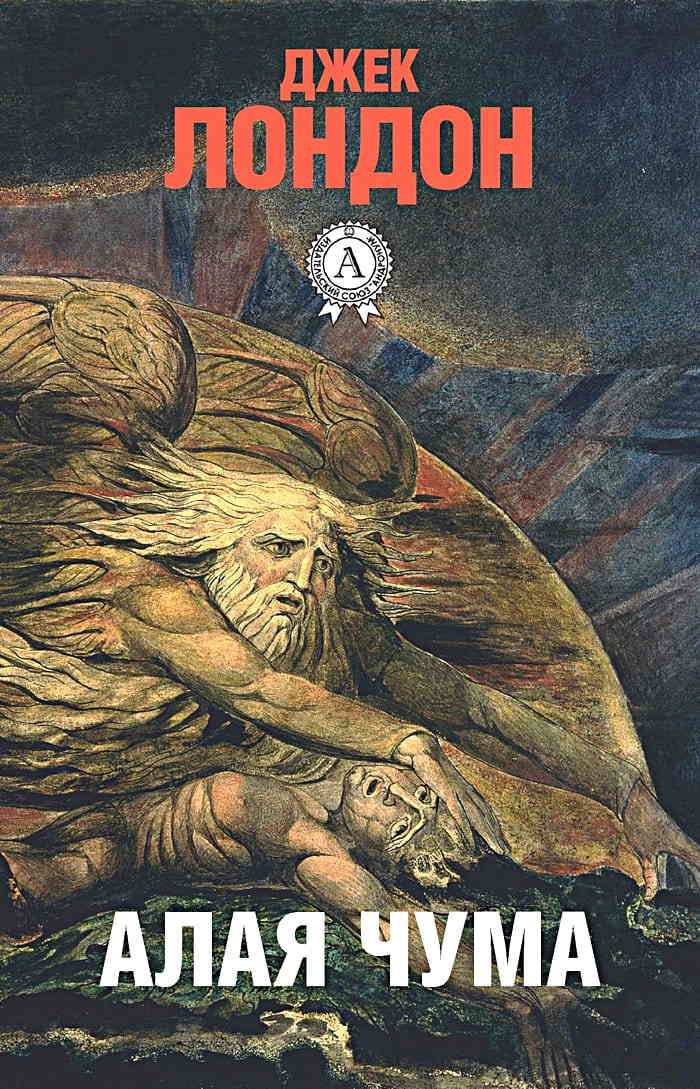


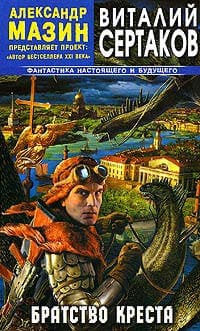
 Никитин Юрий
Никитин Юрий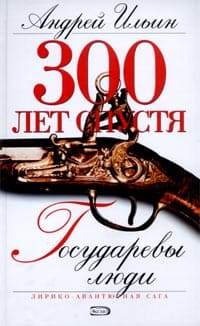 Ильин Андрей
Ильин Андрей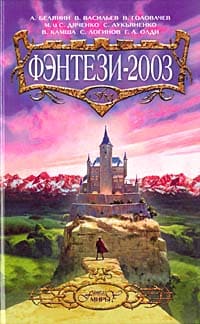 Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий Шилова Юлия
Шилова Юлия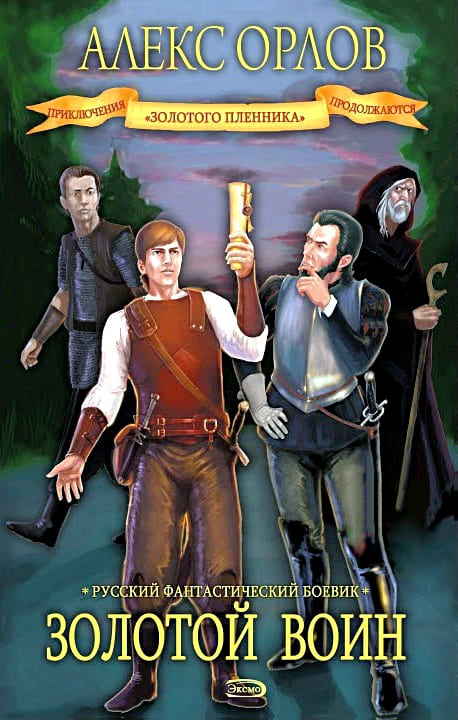 Орлов Алекс
Орлов Алекс Сертаков Виталий
Сертаков Виталий