словечкам. Из книг я выковыриваю цитаты. "Also,-- думаю я с
удовольствием,-- sprach Zarathusta". Изумительно точная цитата.
Одна из тех, что сопровождает меня всю жизнь. В ней есть
философское отношение к жизни, начитанность, интеллигентность,
знание языков, а также -- ерунда и обман. Ибо знания мои
приблизительны, интеллигентность показная, я никогда всерьез не
читал Ницше и ничего по-настоящему не знаю ни о Персии, ни о
Заратустре, а немецким и французским языками владею лишь в той
степени, чтобы в туристской поездке сказать кельнеру в
ресторане: "Пожалуйста, еще хлеба!"
а мне четырнадцать. Дело происходило в центре Москвы, на улице,
которой сейчас не существует. Дома, естественно, тоже. Дом был
крепкий, пятиэтажный молодец в стиле дешевого модерна начала
века. Я помню лестницу, пахнущую кошками и нечистотами, но
чугунные тонкие решетки на полукруглых окнах были изысканны,
как рисунки Бердслея. Помню квартиру, запутанную, как аквариум,
полный водорослей. Было несколько коридоров, заставленных
шкафами до потолка, где можно было проплывать только боком.
Девочка сидела на диване, от ее рук шел запах йода, и она
читала собственные стихи, на мой взгляд, прекрасные. Я же
спросил ее: "А ты читала "Also, sprach Zarathusta"?" И после
этого были какие-то полудетские достижения, основанные на
мелком обмане.
работников культуры. Таких домиков на территории пять, сейчас
они все пустуют. Сезон начинается в июне. Устав от работы, от
сидения на одном месте, я выхожу в сад и веду беседы с
директором дачи -- он же садовник, он же сторож -- Атабалы
Кульмамедовым. Милейший человек. Ему лет пятьдесят пять. Он
худощав и высок, какими бывают туркмены из племени теке, в его
сухом, черновато-смуглом, небритом и вытянутом, со впалыми
щеками лице видна постоянная озабоченность, что не удивительно
для человека, у которого орава детей; он очень работящ и
одновременно добродушен и, если видит, что мне хочется с ним
поболтать, отложит любую работу и будет разговаривать со мной
час и два. Он угощает меня чаем и вареньем из алычи, покупает
сигареты, если я попрошу, и оказывает другие небольшие услуги.
Жена Атабалы тоже текинка, она полная, статная, медленно
двигается, ходит в длинном темно-вишневом платье куйнак. Ее
зовут Язгуль. Лицо Язгуль усталое, пыльно-коричневого тона,
несколько квадратное, отчего напоминает львиное, все в
морщинках непрестанного материнства, а руки, обнаженные до
локтей,-- молодые, сильные. Наверно, и тело Язгуль с большим
животом, низкой тяжелой грудью, едва очерчивающееся под
складками куйнака,-- еще сильно, полно жизни. Ей лет сорок
шесть, сорок семь. Старшие дети давно женились, живут отдельно.
Сейчас здесь, в Тохире, осталось пятеро: три дочери и два сына.
Самого младшего зовут Дурдкули. Это важный медлительный
пятилетний человек, от которого не добьешься лишнего слова.
Как-то я спросил у него: "Дурдкули, сколько тебе лет?" Он не
ответил и, важно повернувшись, побежал прочь, но ладошку с
растопыренными пальцами держал сзади на штанах, показывая:
пять. Вечно он куда-то пропадает, мать его ищет, и по саду
разносится ее крик: "Дурдкули-и!"
отличие от многих деревенских туркменок лишена утомительной
восточной стеснительности. Разговаривая со мной, с трудом
подбирая слова, она спокойно и прямо, не мигая, смотрит на меня
своими желтыми неподвижными глазами.
в глубь дома, кричит по-туркменски.
протягивает ножницы. Иногда я прошу кусок мыла, лампочку, нитку
с иголкой, чистую тетрадку, клей, и все это находится в доме
Язгуль. Разумеется, я стараюсь вручить Язгуль деньги, но она
никогда не берет.
жест рукой.
даже слегка напугало. Хотя что может теперь меня напугать? Была
какая-то секундная горечь. Человек осознает свой возраст с
опозданием. Вроде того, как с изменой жены: все уже все знают,
а ты не догадываешься. Но есть нечто, существующее помимо
сознания, какой-то тайный часовой механизм, который вдруг
подает сигналы. Помню, как ехал подростком в трамвае и увидел
молодую женщину, сидевшую напротив, ничем не примечательную,
загорелую, грудастую, с сумкой на коленях, с голыми ногами,
которые она скрестила небрежно: то, как я увидел эту сидящую
женщину, было для меня внезапно и ново и тоже, как теперь,
слегка напугало. Сразу после того, как думал ночью о Язгуль,
перекинулся на мысли о себе. Это связано неумолимо: как только
задумываюсь о времени, тут же перескакиваю на свою дорогую
персону. Кто я, что я и так далее, Иногда думаешь: все ничего,
я в порядке. А иногда -- тоска. Нет, думаешь, толку не вышло.
Всю жизнь делал не то, что хотелось, а то, что делалось, что
позволяло жить. А мог бы, наверное. Вот если 6 тогда, сразу
после института, в сорок каком-то... Ну, и так далее, и тому
подобное.
сидячей жизни и неумеренного курения мое лицо приобрело
желтоватый оттенок, одрябло, под глазами у меня мешки, которые
темнеют и увеличиваются, когда накануне "расширишь сосуды".
Раньше я пил порядочно, называл это "расширить сосуды", теперь
же врачи запретили, да и сам чувствую: после трех, а то и двух
рюмок сердце колотится неимоверно и задыхаюсь. Курить тоже
заставили бросить. Но дело не в том. Совершенно не в том! Можно
болеть, можно всю жизнь делать работу не по душе, но нужно
ощущать себя человеком. Для этого необходимо единственное --
атмосфера простой человечности. Простой, как арифметика. Никто
не может выработать это ощущение сам, автономно, оно возникает
от других, от близких. Мы не замечаем, как иногда утрачивается
это вековечное, истинное: быть близким для близких. Ну, что за
ветошь: возлюби ближнего своего? Библейская болтология и
идеализм. Но если человек не чувствует близости близких, то,
как бы ни был он интеллектуально высок, идейно подкован, он
начинает душевно корчиться и задыхаться -- не хватает
кислорода.
муру, а твоя совесть молчит?" -- я почувствовал, как у меня
что-то остановилось в груди, в аорте. Я двигал ртом, ничего не
мог произнести, а он смотрел на меня уже не так, как раньше, а
с испугом. Наконец я сказал: "Негодяй! На эту муру я тебя поил
и кормил семнадцать лет, довел до десятого класса! На эту муру
ты покупаешь себе джинсы, пластинки и всякую дрянь! И сам ты
дрянь!" И тут я его ударил. Он согнулся и побежал в свою
комнату. Я знал, что ему было больно. Но я не чувствовал
никакой жалости к нему -- хотя я бил его редко, может быть, два
или три раза за всю жизнь,-- я только чувствовал пустоту и
отчаянье, которое эту пустоту заполняло. Фраза, брошенная мне в
лицо, была давно придумана, и в ней были ненависть и презрение,
накопленные месяцами и, может быть, даже годами. Там был,
конечно, не один Кирилл, но и Рита. Так они разговаривают обо
мне между собой. И, главное, в этой фразе был я! Я, я! Узнал
свои словечки: "производишь муру". Презрение -- вещь
заразительная. Я никогда не вскипел бы так бурно, если 6 не
почуял в этой фразе себя, свое тайное, как дурная, скрываемая
болезнь, презренье к "муре" и к своей собственной тоже.Но ведь
парень ничего этого не знал. Он получил затрещину и убежал
ошеломленный, давясь слезами.
ящике стола -- очень хотелось курить, я искал сигареты --
маленькую книжечку в кожаном переплете с запором.
Заинтересовался, открыл: ключик лежал рядом. Это оказался
дневник, начатый Кириллом несколько месяцев назад. Я пробежал
по диагонали страниц двадцать, исписанных крупным и жидким,
полудетским почерком,-- было неловко, но я сказал себе, что с
позиций воспитателя имею абсолютное право. Много было ерунды,
описание футбольной встречи с другой школой, рассуждения о
какой-то научно-фантастической книге современного автора,
по-видимому, порядочной гадости, взаимоотношения с неким А. и
некоей О., описанные многословно и туманно, с многоточиями, и
затем запись о праздновании собственного дня рождения. Накануне
-- подробнейшие прогнозы насчет того, кто что подарит. Эта
страсть к получению подарков, которую Кирилл демонстрировал с
такой замечательной искренностью и прямотой,-- началась в
младенчестве и продолжается до сих пор -- всегда меня коробила,
но все же я к ней привык. Не новость. То же самое было у Риты.
"Посмотрим, на что расшибется папа. Еще летом обещал мне маг,


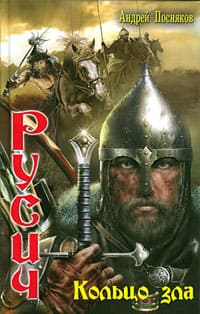

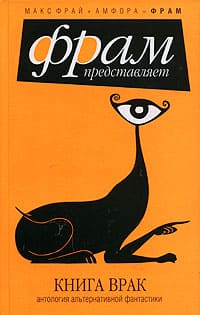

 Сертаков Виталий
Сертаков Виталий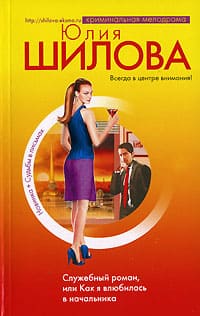 Шилова Юлия
Шилова Юлия Шилова Юлия
Шилова Юлия Корнев Павел
Корнев Павел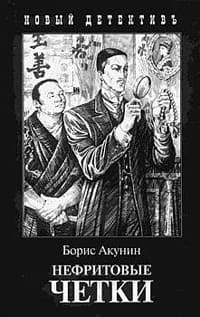 Акунин Борис
Акунин Борис Мацумото Сэйте
Мацумото Сэйте