галстуком, на котором изображались пять олимпийских колец,
спросил: "Это ваша икона?" Я увидел старую икону тети Глаши,
недавно висевшую рядом с Пикассо. "Да! То есть, собственно..."
Я объяснил. Икона изъята у крупного фарцовщика, против которого
сейчас возбуждено дело. А фарцовщик купил икону за сто двадцать
рублей у Кирилла. Пока еще не ясно: будет ли Кирилл привлечен к
суду, покажет ход следствия, но дело непременно получит
огласку, и в первую очередь в комсомольской организации
института. Затем я ответил на несколько вопросов насчет
Кирилла, Нюры, происхождения иконы и какого-то малоизвестного
мне Кириллова приятеля из группы "Титаны" по имени Ромик. Я
подтвердил, что ничего не знал о продаже иконы и вообще все это
для меня полная неожиданность. Я считал, что икона находится в
больнице у Титовой А. Ф.
к выходу и уже возле дверей спросил: "А моего сына вы когда
вызовете?" И следователь меня огорошил: "Он уже давал
показания. Понадобится, вызовем еще". Значит, вчера, когда он
так хохотал в гостях... В первую секунду, поняв, из-за чего
меня вызывали, я испытал мгновенное облегчение. Не я, не я!
Кирилл, конечно, тоже "я", какая-то часть "я", но еще
небольшая, незрелая часть, не так уж страшно, рана не
смертельна. Однако облегчение было действительно мгновенным:
оно длилось одно мгновение. Когда же картина раскрылась -- а
это произошло там же, за столом следователя, озарилось все за
секунду, и не следователь подсказал, а я сам вдруг увидел,
дорисовал,-- когда я понял, как Кирилл все устроил, уговорил
бедную дуру, обманул нас, скрывал, лицемерил, меня схватило и
стало душить чувство, еще более непереносимое, чем страх. Это
было чувство ужасающего стыда. Потому что все-таки -- я! Я, я и
никто другой! Не Кирилл, а я сидел перед столом следователя, и
молодой человек задавал мне вопросы, глядя с холодноватой и
тайной брезгливостью. О, я это отлично чувствовал! И если бы не
я, целиком я со всеми моими потрохами, а какая-то часть меня,
какой-то Кирилл сидел перед столом следователя, я бы никогда не
почувствовал той брезгливости, не испытал бы того стыда и боли.
замечательно. Подонок, ничтожество, дождался? Не-ет, пускай
будет суд, пускай тебя вытащат, скотину. Не мог воспитать
единственного сына, жалкое существо, старый идиот... Бежал
домой, чтобы что-то сказать, спросить -- что? О чем спрашивать,
что говорить? Рита была дома, Кирилл еще не вернулся. Рита все
знала. Он ей сказал. А мне что же -- узнавать через прокуратуру
о том, что происходит в собственном доме? Может, я уже не член
семьи? Тогда скажите об этом. Поставьте в известность. Я соберу
чемодан и уеду.
начнешь буйствовать, волноваться... А тут надо не кричать, не
ругаться, а думать -- как и что... Он поступил отвратительно,
все верно, но надо выручать. Просить Меченова, Рафика, Геру,
кого угодно, потому что парня выкинут из института. Сначала
спасать, потом -- судить". Нет! Нет! Сначала судить! А
спасается пускай сам! Она мне что-то протягивала. "Успокойся,
потом поговорим. Прими элениум". И я заметил в ее взгляде ту же
холодноватую, почти казенную брезгливость, что и у следователя.
Она ушла в свою комнату. Я заперся в кабинете.
позвал его. Он зашел с сигаретой, сел на диван и, нагло
улыбаясь, уставился на меня. Прежде всего я вырвал у него изо
рта сигарету и выбросил ее в форточку. "Это что должно
означать?" -- спросил он. "Должно означать, что сегодня я
был..." -- "Знаю! У Василия Васильевича".-- "Какого Василия
Васильевича?" -- "Ну, следователя, Катеринкина".-- "Откуда ты
знаешь?"-- "Я же у него свой человек. Четыре раза вызывали".--
"Да? -- спросил я грозно.-- Четыре раза?" На самом деле мой
запас иссяк, и я сказал -- ничего не получалось иначе --
постыдным, укоризненным голосом: "Ну, ты понимаешь хоть, что ты
негодяй? А?" -- "Конечно, папа. Чего же не понимать? Понимаю".
Он склонил голову удрученно и легко. Я видел, что дураченье
меня продолжается. Вдруг он вскочил с места, подбежал к столу,
где лежал маленький транзистор, и включил его. Диктор что-то
тараторил. Лицо Кирилла озарилось радостью, он хлопнул в ладоши
и прошептал: "Ура, ура!" Я подошел, вырвал из его рук
транзистор и выключил его. "Вот что, говорю с тобой последний
раз и совершенно серьезно. Выкручивайся сам! Понял?"-- "Ладно,
папа,-- сказал он.-- Вас понял. Ты только не волнуйся". Я
возмутился, и одновременно мне стало дико смешно. "Да не я
должен волноваться, а ты, ты! Ты должен волноваться!.. Глупый
тип!" -- "Я понимаю, папа. Я и волнуюсь. Но ты не должен
волноваться. Все будет нормально, не думай ни о чем. Принести
тебе воды?" -- "Пошел от меня прочь!" -- закричал я. Он
выскочил из кабинета прыжками волейболиста. А я остался лежать
на диване. Как жалкий, раздавленный таракан. И это было
окончательным доказательством того, что там, перед столом
следователя, сидел я, а не он.
называется "цугцванг". Все ходы вынужденные. Над дураком
нависло исключение. Я бросился к Рафику и через него -- к
Меченову. Оказалось: "У вашего любезного сына слишком много
прегрешений. Он до сих пор не сдал зачета по физкультуре. В
первом семестре пропущено двадцать два академических часа без
уважительных причин". Пришлось обращаться к Гартвигу, приятель
которого, бывший секретарем приемной комиссии, стал шишкой в
ректорате, Рита почему-то не хотела звонить Гартвигу. А со мной
Гартвиг был очень холоден и сказал, что с приятелем поговорит,
но за успех не ручается: потому будто бы, что его,
гартвиговский, кредит в том доме. пошатнулся. Я не стал
выяснять, в чем дело. Кто-то мне сказал, что у Гартвига
неприятности в институте и ему вроде бы даже грозит увольнение.
Ну, следовало ждать. Я нисколько не удивился. Но все же
Гарт-виг, по-видимому, позвонил, и содействие его приятеля
помогло: Кирилл остался. По комсомольской линии он получил
строгий выговор с предупреждением. Я заставил его отвезти сто
двадцать рублей Нюре, в загородную больницу Мурашково, привезти
от нее расписку, а икона застряла в недрах органов правосудия в
ожидании своего часа -- лечь на стол вещественных
доказательств. Но дело не в этом. Дело совершенно не в этом!
Когда все кончилось, наступила тоска. Вот в чем дело. Мы больше
не ругались с Ритой, мы просто обменивались мнениями. Она
говорила: "Когда три эгоиста живут вместе, ничего хорошего быть
не может".-- "Да, но у каждого эгоиста есть выход,-- говорил
я.-- Найти доброго человека, который будет ему все прощать".--
"Это такая волынка -- искать доброго человека. Я устала. Я уже
старая женщина".-- "Ничего, охотники на тебя найдутся". Так мы
разговаривали за завтраком, а Кирилл сидел тут же и читал
газету.
разбитый после бессонной ночи. По всем признакам был подскок
давления. Может быть, оттого, что близка перемена погоды, к
холоду или к еще большей жаре, а может, переработался, мозг
устал, нужна пауза.
убежала на работу, измерить давление.
пятом они взяли ее, трехлетнюю, из детского дома. Родители
неизвестны, ничего неизвестно, кроме того, что она откуда-то с
Украины. Валя прибежала с аппаратом тотчас. Какая добрая
девушка! Не так уж плохо: сто сорок на девяносто пять. Я
приободрился, даже забормотал какие-то пошлости: "Валюта, одно
ваше присутствие действует, так сказать..." От ее халата слегка
пахло карболкой, но от рук, прикасавшихся ко мне, когда она
закатывала рукав рубашки и прилаживала аппарат, и от ее лица,
близко склоненного, с выражением величайшей детской
сосредоточенности -- точно это была игра, а не работа,-- я
ощущал свежий, телесный запах и подумал, что еще года три назад
не упустил бы возможности, приударил бы, взвинтился бы от одной
близости молодой женщины, но теперь внутри меня сидел страх.
Валя сказала строго:
ухаживать за красивыми девушками...-- Я взял ее за руку в тот
момент, когда она поднималась со стула, и она снова села.
Увидел, что она покраснела. Держа ее за кисть, положил
невзначай руку на ее колени. Она могла быть дочерью: разница
лет двадцать. Ровесница моему первому сыну. -- Ну и глаза,--
сказал я.-- Ну и синие. -- Вечером принесу вам лекарство,--
сказала она хмурясь.-- Что принести, резерпин или раунатин? --
Все равно. Только обязательно. Она встала с тем же суровым
видом, вышла через маленькую терраску в сад и, проходя под
окном моей комнаты, посмотрела на меня, улыбнулась и сказала,


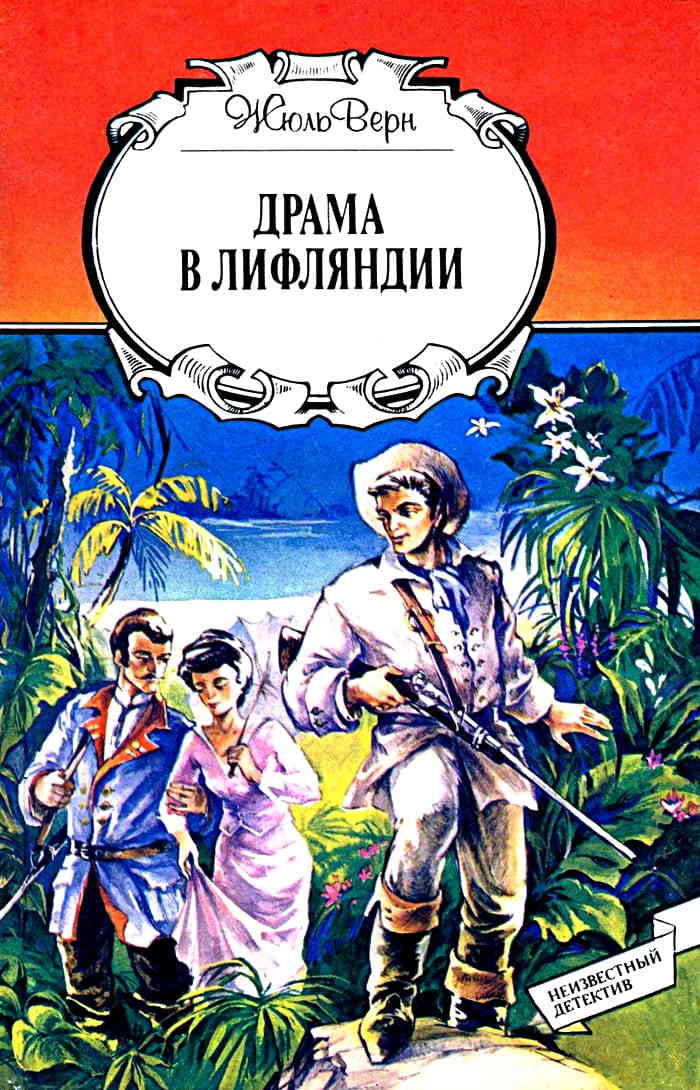
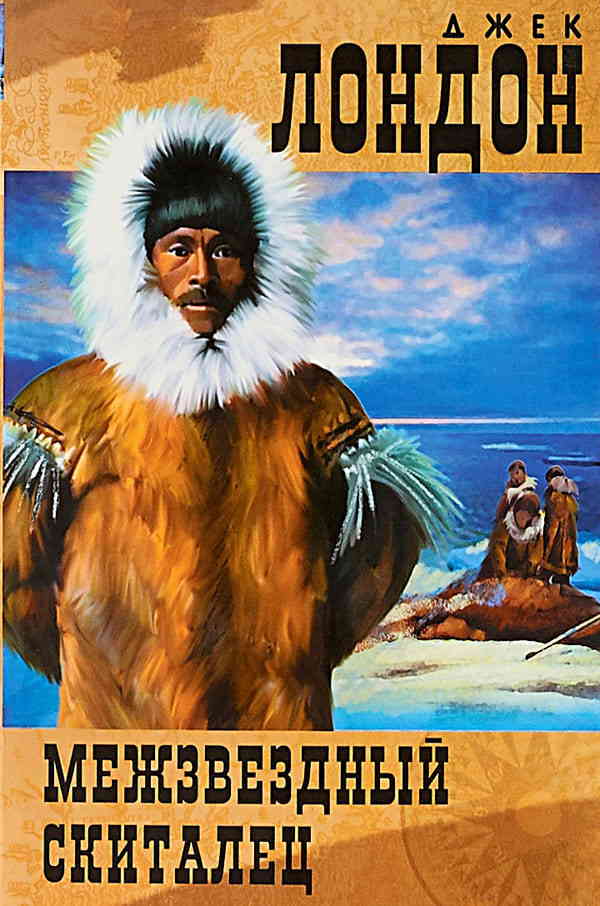

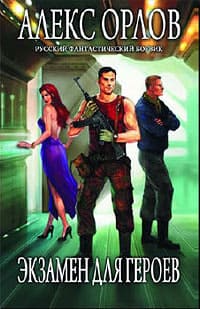
 Пехов Алексей
Пехов Алексей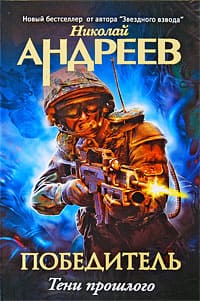 Андреев Николай
Андреев Николай Панов Вадим
Панов Вадим Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий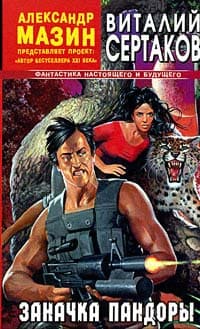 Сертаков Виталий
Сертаков Виталий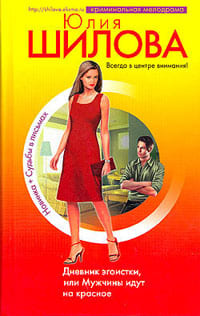 Шилова Юлия
Шилова Юлия