но он удивительно везуч и ловко умеет устраивать свои дела.
воскресенье, обратно просил: "Пускай Валя постелю принесет!"
Утром злой идет. От твоей кухни, сказал, запах по всему
территорию, надо тебя убрать окончательно. А в райсовете
сказали: "Язгуль -- мать-героиня, никто не выселит, не
беспокойся". Ха-ха! -- Он смеялся, сверкал зубами. Потащил
саксаул. Я понял, что его жизнь необыкновенно трудна, почти
идеальная в этом смысле, и он счастливый человек.
Маленький Назар стоял при входе на каменных ступенях и
высокомерно разговаривал с горбатым человечком, у которого было
скучное, интеллигентное лицо с черной бородкой и черными
усиками. Лицом горбун напоминал какого-то из испанских королей.
Когда после плова и пиалы чаю я выходил спустя четверть часа из
чайханы, Назар и горбун ссорились и было похоже, что затевается
драка. Вокруг стояли зрители. Некоторые садились на корточки,
чтобы уютней смотреть. Мне сказали, что горбун -- курд, его
зовут Саша, он тоже большой драчун. Назар внезапно толкнул
Сашу, и тот упал. Зрители сказали: "Ва-ах..." Я вспомнил, как
говорил Атабалы: "От него падаешь, как все равно с ишака --
головой в землю". Этот коротышка Назар занимал меня. Может
быть, потому, что он хотел жениться на Вале и купил с этой
целью три кило конфет. Я рассматривал: на нем была бумажная,
дешевая рубашонка навыпуск в каких-то цветочках, сатиновые
брюки, темно-красные бумажные носки и босоножки из
кожзаменителя. Он поднялся по ступеням и встал на прежнее место
у входа в чайхану. В его глазах, смотревших на всех нас сверху
вниз, что-то пылало.
Она ни
приближался, шатаясь, к крыльцу чайханы, люди шарахнулись, но
Назар стоял неподвижно и смотрел на горбуна. Потом юркнул в
дверь и через минуту вернулся, держа громадный кухонный тесак.
Люди засмеялись. Назар стоял на верху крыльца, напыжившись,
расставив свои крепенькие ноги гнома, и держал кухонный тесак,
как алебарду. Саша плюнул, махнул рукой и ушел. Все стали
громко хохотать. В это время к чайхане подъехал с дребезгом и
остановился автомобиль, хлопнула дверца, и я увидел своего
друга Мансура в белом костюме и белой соломенной шляпе.
людей. Назар, выпучив глаза, заорал:
на заднем сиденье был еще кто-то. Через некоторое время Мансур
появился, неся авоську с тремя бутылками коньяку.
вокруг
обычно, не хохотал, а тоненько хихикал, прыскал сквозь зубы. И
это "тсыканье" означало, что настроение отличное, пищеварение в
порядке, дела идут хорошо и виды на будущее еще лучше.
пятьсот вверх по тенистой улице. Телеграммы не было. Никто не
звонил. Вместе с Мансуром прибыл огромный человек по фамилии
Мергенов, начальник треста ресторанов и столовых, друг Мансура:
в воскресенье должно состояться открытие ресторана "Чинар", и
товарищ Мергенов приехал, чтобы лично присутствовать. Когда он
вылез из машины и распрямился, я увидел нечто каланчеобразное:
рост не менее двух метров, холм живота обнимали полотняные
штаны какого-нибудь шестьдесят четвертого размера, гигантские
руки-лопаты, и при этом -- небольшая голова полированным и
сверкающим под солнцем коричневатым яйцом, напоминающая
гладкостью щек и большим ртом голову чудовищного младенца.
Товарищ Мергенов мог бы играть в детском театре Идолище
Поганое. Вскоре выяснилось, что он деликатнейший милый человек.
Он тотчас после обеда лег спать, а Мансур прослушал две главы
своей поэмы "Золотой колокольчик" -- все двенадцать глав
слушать было ему недосуг, перенесли на вечер -- и побежал в
"Радугу", министерский дом отдыха, где отдыхал какой-то нужный
ему человек. Я не обижался на то, что Мансуру некогда было
слушать собственную поэму в моем переводе, эти ворохи строк, в
которых были мои одышки, находки, придумки, издыхающий мозг. В
порядке вещей. Я к этому привык. Но взорвало меня другое. Когда
я сказал: "Ладно, беги. А как там с деньгами?" -- он ответил
небрежно, на ходу: -- Слушай, закончим дело -- тогда будем
говорить... И даже звякнуло раздражение. Вот, мол,
бестактность: пристают с деньгами. Меня как будто шлепнули по
щеке. Я закричал:
сегодня! Да черт вас дери совсем! -- орал я в беспамятстве.--
Ты можешь понять, в каком я сейчас положении? Я должен посылать
в Москву! Именно сейчас я не могу задерживать! Наши
приятельские отношения тебя избаловали! А я переводчик первого
ранга! Меня добиваются, за мной стоят в очереди! Ты понимаешь
это?..
спокойный.-- Ты большой человек, я знаю... Не ругай нас, бедных
кочевников... -- Не фиглярствуй!
протягивал бумажку в двадцать пять рублей.-- Дома ремонт
начали, сами без денег. В понедельник пойдем... нажмем,
сделаем...
тут останусь!
меня руками, как на больного, кивая и подмигивая и твердо зная
при этом, что все кончится благородно: я никуда не уеду, пока
он не выжмет меня до капли. Ведь я в капкане. И все движения,
которые я делаю будто бы независимо, на самом деле движения
существа, находящегося в капкане. В радиусе не длиннее
собственного хвоста. Я поднял четвертную и положил на стол.
Потом лег на кровать, сунул под язык таблетку валидола --
сердце заныло -- и лежал с закрытыми глазами час или полтора,
вечер. За перегородкой затрещала кровать -- громадный человек
проснулся, трубно вздыхал, сопел, потом сказал: "Ай-вай-вай..."
-- снова затрещала кровать, протопали тяжелые ноги, ударила
дверь, ушел. Теперь, когда я лежал в полной тишине и
одиночестве, я понял, что безобразное орание из-за денег --
вовсе не из-за денег. Все-таки я надеялся на известие. Я -- не
они. Молчание неестественно, даже если все кончено, потому что
когда человек звонит вдруг на рассвете и говорит, что болен,
пускай даже чужой человек, бывший родственник, надо быть уж
совсем скотами, чтобы тупо молчать девять дней. Впрочем, Кирка
пригрозил как-то: "Ладно, вот убегу из дома, а тебя хватит
инфаркт. Потому что я могу жить без тебя, а ты без меня -- не
можешь". Поганец, сказал правду. Там что-то отлучилось. Черт с
ними, позвоню и узнаю.
говорят о жировке, в доме повешенного..." Стало легче оттого,
что принял решение. Вдруг пришла Валя. Совсем забыл, что она
должна принести лекарство. Я сел на кровать, к столу, она
измерила давление. Немного повысилось: сто пятьдесят на сто.
Ага, "кондратий" все ближе. Вот что значит поволноваться.
видно, собирая воедино все свои небольшие познания о гипертонии
и сердечных болезнях. Она была не в халате, а в белой нарядной
кофточке и в синих нейлоновых брюках, плотно облегающих.
Наверное, здорово жарко в этих брюках. Но зато выглядело
элегантно. Я заметил, что и прическа не та, что утром.
сегодня дома буду.
было никакого желания притронуться к ее коленям или взять за
руку, как было утром. Резерпин она положила на стол, аппарат
спрятала, но почему-то не уходила. Я не знал, чего мне
хотелось: чтобы она ушла или осталась. Разговаривать было вроде
не о чем. Она молчала, я тоже молчал. Игра в молчанку была как
раз ей по возрасту. Я думал: сегодня позвонить уже не удастся,
почта до пяти. Завтра с утра. Никаких разговоров. Просто
узнать: все здоровы? Прекрасно. Повесить трубку. Всего этого




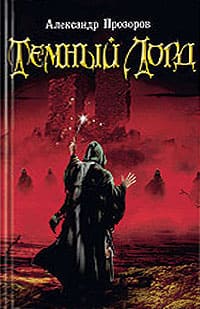
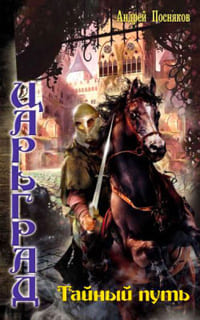
 Сертаков Виталий
Сертаков Виталий Свержин Владимир
Свержин Владимир Аникина Наталья
Аникина Наталья Сертаков Виталий
Сертаков Виталий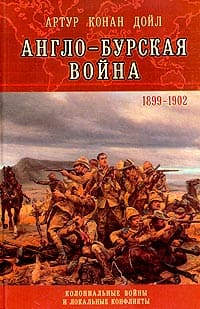 Конан-Дойль Артур
Конан-Дойль Артур Конюшевский Владислав
Конюшевский Владислав