ДЖОН ФАНТЕ
ПОДОЖДИ ДО ВЕСНЫ, БАНДИНИ
и моему отцу Нику Фанте с любовью и восхищением.
Бандини, не теряя следов этой книги в прошлом. Иногда я лежу ночью в
постели, а фраза, абзац или персонаж из этой ранней работы просто
гипнотизируют меня, и в полудреме я переплетаю их с нынешними фразами и из
них черпаю какие-то мелодичные воспоминания о старой спальне в Колорадо,
или о маме, или об отце, или о братьях и сестре. Я не могу вообразить, что
давно написанное успокоит меня так, как успокоит эта полудрема, и все же
не могу заставить себя оглянуться, открыть этот первый роман и прочесть
его заново. Мне страшно, я не вынесу встречи с собственной работой. Я
уверен, что никогда не прочту ее снова. Но вот в чем еще я уверен: всех
людей в моей писательской жизни, всех моих персонажей можно найти в этой
ранней книге. От меня самого ничего там больше не осталось - только
память о старых спальнях, да шуршанье шлепанцев моей мамы, идущей на кухню.
обрыдло.
Он заколел, а в башмаках зияли дыры. Тем утром он залатал их изнутри
кусками картона от коробки из-под макарон. За макароны в этой коробке еще
не уплачено.
кирпичами, которые он клал, замерзал. Теперь вот плелся домой, но в чем
смысл - идти домой? Когда он был мальчишкой в Италии, в Абруцци, то снег
тоже терпеть не мог.
штат Колорадо. Только-только вышел из Имперской Бильярдной. В Италии тоже
есть горы, вроде вон тех, белых, в нескольких милях к западу. Горы -
огромное белое платье, отвесно скинутое на землю. Двадцать лет назад,
когда ему было двадцать, целую неделю голодал он в складках этого дикого
белого платья. В горном зимовье пытался развести огонь. Зимой там опасно.
А он сказал: к черту опасности, потому что ему тогда было всего двадцать,
а в Роклине у него осталась девушка, и ему нужны деньги. Однако крыша
зимовья все равно прогибалась под тяжестью удушающего снега.
мог понять, почему не поехал в Калифорнию. Надо же было остаться в
Колорадо, в глубоком снегу - а теперь слишком поздно. Прекрасный белый
снег похож на прекрасную белую жену Свево Бандини, такую белую, такую
плодородную, - лежит сейчас в белой постели дома. На Ореховой улице, дом
456, Роклин, Колорадо.
они были мягкими, они были глазами женщины. При рождении он украл их у
своей мамы - ибо, родив Свево Бандини, его мама никогда уже не была
прежней, вечно болела, глаза постоянно больные после родов, а потом
умерла, и настала очередь Свево носить мягкие карие глаза.
был сын по имени Артуро: любил трогать Свево за плечи и нащупывать внутри
змей. Прекрасный человек Свево Бандини - одни мускулы, а еще у него есть
жена по имени Мария:
разум таяли, точно вешние снега. Она была такой белой, эта Мария, что
посмотришь на нее - и будто сквозь тончайшую пленку оливкового масла
увидишь.
повторял эти слова снегу. Зачем Свево нужно было проигрывать десять
долларов в покер сегодня в Имперской Бильярдной? Он ведь такой бедный
человек, трое детей к тому же, а за макароны не уплачено, за дом - тоже,
за дом, где трое детей и макароны. Собака Бог - ох, собака.
купить еды для детей, - жена у него была с большущими черными глазами,
болезненно яркими от любви, и в глазах этих виднелось что-то такое,
лукавинка, с которой она заглядывала ему в рот, ему в уши, ему в желудок и
ему в карманы. Глаза такие умные, что грустно: всегда знают, когда у
Имперской Бильярдной дела идут хорошо.
стать, - но души его не видели.
рассматривали всех живых и мертвых как души. Уж Мария знала, что такое
душа.
бессмертная штука, о которой она ни за что не хотела спорить. Душа -
бессмертная штука. Ладно, чем бы она там ни была, душа все равно
бессмертна.
навеки, - и она молилась за души Свево Бандини и своих детей. А поскольку
больше времени не оставалось, она надеялась, что где-то в этом мире
кто-нибудь - монахиня в какой-нибудь тихой обители, кто-то, все равно,
кто - найдет время и помолится за душу Марии Бандини.
пинал снег и думал о том, что однажды изобретет. Просто вот такая мысль в
голову пришла:
этом есть. И тут он содрогнулся, как дрожишь, когда ляжкой дотронешься до
холодного железа, и неожиданно вспомнил то множество раз, когда забирался
зимними ночами в теплую постель к Марии, а крошечный холодный крестик у
нее на четках касался его тела, словно прыснувшая холодная змейка, а он
отпрядывал на холоднющую сторону постели, - и тут же подумал о спальне, в
том доме, за который не уплачено, о своей белой жене, бесконечно ожидающей
страсти, - невыносимо, и сразу же в ярости оступился, попав ногой мимо
тротуара, туда, где снег глубже, вымещая злость свою на снеге. Dio cane.
Dio cane.
санки.
вдруг заспешили к верхушкам деревьев, и он оказался на спине, а санки
Артуро все еще скользили прямо в сугроб, в утомленные снегом кусты сирени.
Dio cane! Говорил он этому мальчишке, мерзавцу этому маленькому - не
оставляй санки на дорожке.
сбесившиеся муравьи. Он поднялся на ноги, воздел глаза к небу, погрозил
Господу кулаком и чуть не рухнул в ярости обратно. Ах этот Артуро! Ах
негодяй маленький! Он вытащил санки из-под сиреневого куста и с
дьявольской методичностью отодрал полозья. Только завершив разгром, он
вспомнил, что санки стоили семь пятьдесят.
куда через верх башмаков набился снег. Семь долларов и пятьдесят центов
раскурочено на куски. Diavolo! Пусть мальчишка сам себе теперь санки
покупает. Все равно ему новые хотелось.
всегда с ним разговаривает, как попугай, долдонит вечно одно и то же.
Всякий раз, когда его ноги заставляли скрипеть половицы крыльца, дом
надменно произносил: ты мне не хозяин, Свево Бандини, и я никогда не буду
тебе принадлежать. Стоило взяться за ручку входной двери - то же самое.
Пятнадцать лет уже дом насмехается над ним и раздражает своей идиотской
независимостью. Бывало, ему очень хотелось подложить под него динамит и


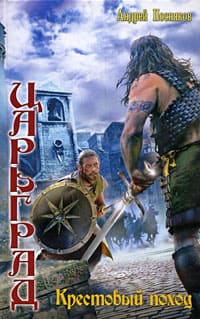

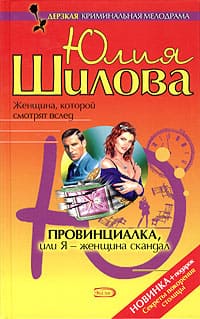

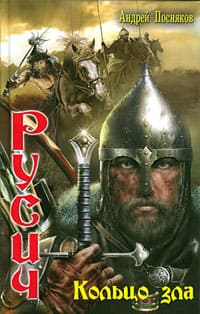 Посняков Андрей
Посняков Андрей Конюшевский Владислав
Конюшевский Владислав Корнев Павел
Корнев Павел Свержин Владимир
Свержин Владимир Юрьев Сергей
Юрьев Сергей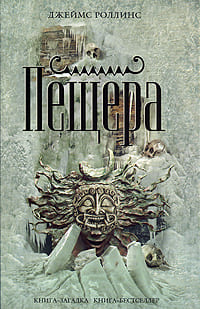 Роллинс Джеймс
Роллинс Джеймс