приехал. Когда рассказывали, распевали, словно северный бард,- сказание о
Кухулине, как маршал со звездами на широких погонах, с животом горой и
пенсне на мясистом рубильнике, входит ежевечерне доложить, сколько кубов
напилили по всем лагерям. И великий Ус, погуляв туда-сюда по просторному
кабинету, подымив трубочкой, подходит к стоячим счетам вроде тех, что стоят
в первом классе, перебрасывает костяшки и, откинувшись, словно художник
перед картиной, щурясь от дыма, говорит:
"Мало! Пущай сидят".
Когда рассказывали, клялись, что доподлинно знают, как один мужик забрался
ночью в кабинет оперуполномоченного и, сложив ладони, точно перед ликом
Спасителя, вопросил: правда ли, что вся Россия сидит? И что будто висящий
над столом портрет ответил ему загадочной фразой:
"Благо всех вместе выше, чем благо каждого по отдельности".
Не расслышав как следует, любопытствующий повторил вопрос: правду ли
болтают, что-де на воле никого уже не осталось?
На что великий всезнающий портрет, блеснув очами леопарда, ухмыльнувшись
половинкой усов, отвечал:
"Ща как в рыло въеду, не выеду".
...вывез пустую вагонетку из сарая, гнев дежурного надзирателя на вахте меня
не волновал. В конце концов за работу электростанции отвечал механик. Волоча
кабель, я побрел к штабелю с елкой, елка была посуше; выкатил несколько
баланов, разрезал, электрическая пила стрекотала в моих руках, как пулемет,
рукоятка билась под рукавицей. Дул пронзительный ветер, лампочка
раскачивалась на столбе под черной тарелкой, колыхался желтый круг света.
Покачавшись, свет погас. Пила замолкла. Открылся сумеречный, сиреневый
простор под усыпанным алмазными звездами небом. Но машина по-прежнему
рокотала в сарае, из железной трубы летели искры, валил дым. Очевидно,
перегорела лампочка над площадкой.
В темноте я расхаживал вдоль расставленных полутораметровых плах. Ель - не
береза, литые березовые дрова на морозе звенят и разлетаются, как орех, а
елка пружинит. Это я советую запомнить каждому. Боль под лопаткой от
начинающегося сухого плеврита мешала мне размахнуться как следует. Колун
завяз в полене и ждал, когда я наклонюсь. И лампочка перегорела. И, когда я
нагнулся, он вырвался из полурасщепленного полена, я получил удар обухом в
лицо, какого никогда не получал, и с размаху полетел навзничь.
Надо бы поразмыслить над тем, что мы называем случаем; может быть, вся наша
жизнь - несчастный случай.
Мы в России привыкли жить одним только сегодняшним днем, это не очень-то
мудрое правило, а потому не считайте меня отставшим от жизни и не думайте,
что мои рассуждения - прошлогодний снег. Снег, друзья мои, дело вечное.
Пусть он в данный момент растаял, дайте срок - выпадет снова. Из снега все
вышло, в снег и уйдет. И вода, что вы пьете, тот же снег; и не зря в Библии
сказано: кто однажды отведал тюремной баланды, будет жрать ее снова.
Говорят, Ус не умер, а скрывается где-то; но хотя бы и умер - что с того?
Лагерное существование есть, по моему мнению, законный и нормальный способ
существования русского человека, лагерь - это судьба, а слово "судьба", как
уже говорилось, на нашем языке означает обыкновенную жизнь. Мне, например,
случалось знавать людей, которые страшились конца срока, с тяжелым сердцем
ждали освобождения, здесь, говорили они, у меня и место на нарах, и пайка
каждый день. Здесь я всех знаю, а там? Что я там буду делать? Человек
тоскует, сам того не сознавая, по лагерю, потому что лагерь у него в душе.
Как кромка леса на горизонте, лагерь стоит, никуда не денется. Лагерь ждет.
И не заметишь, как сомкнется вокруг тебя этот лес, и друг обернется
предателем, и вода станет снегом, и дом - бараком.
Наклонись я чуть ниже лбом вместо носа, мы с вами бы не увиделись, почему я
и считаю этот случай подарком судьбы. В темноте я сидел на снегу, выплевывал
зубы. Горячие красные сопли текли, и свисали у меня из разбитого носа и рта,
и стыли на морозе. Перемены в душе совершаются исподволь, а внешние
обстоятельства - только повод, чтобы их осознать. Надо, чтобы судьба взяла
тебя за шиворот и разок встряхнула. Кочегар заметил, что на площадке темно,
и выглянул из барака. Я доплелся до зоны, утром получил в санчасти
освобождение. Четырех дней, однако, не хватило и, помнится, пришлось с
замотанной физиономией топать на станцию под конвоем, следом за подводой, в
которой везли трех совсем уже немощных. На станции дождались теплушек, так
назывался поезд, за десять часов пересекавший по лагерной ветке все
княжество.
Я поправился. То, что осталось от моего лица,- заслуга лагерного хирурга,
говорят, бывшего академика. Перемены совершаются постепенно. Век живи, век
учись. Со сдвинутыми мозгами, в бабьем платке и ушанке, в рукавицах из
мешковины, скрипя растоптанными рыжими валенками по снегу мимо тына и
проволочных заграждений, мимо угловой вышки - со сдвинутыми, говорю я, но
все же работающими мозгами, я уразумел кое-что. Об этом и хотел сказать,
хоть и не знаю, стоило ли.
-
1 Увы, летучие, Постум, проносятся годы (Гораций).
2 множественное величества.
3 "Настоящее повествовательное! Обратное согласование подлежащего и
сказуемого!"


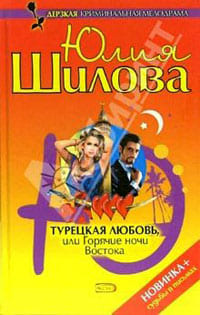

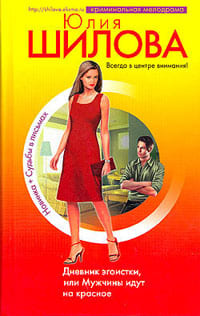

 Орловский Гай Юлий
Орловский Гай Юлий Суворов Виктор
Суворов Виктор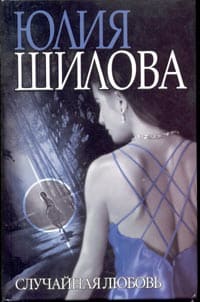 Шилова Юлия
Шилова Юлия Посняков Андрей
Посняков Андрей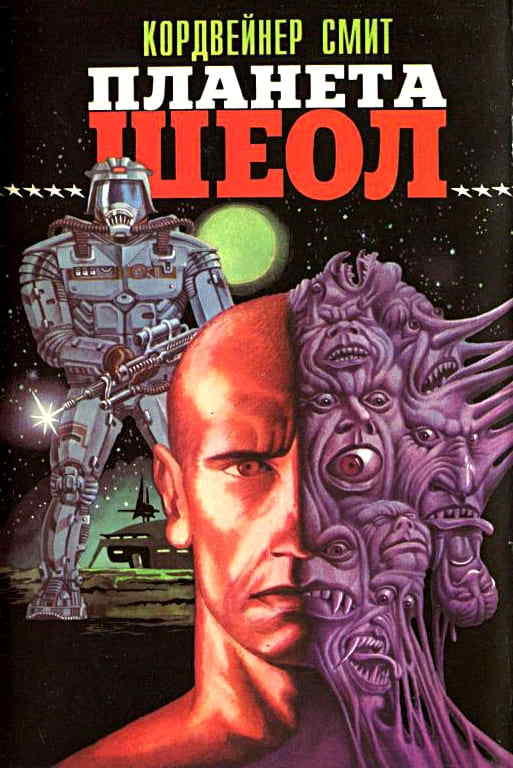 Смит Кордвейнер
Смит Кордвейнер Шилова Юлия
Шилова Юлия