-- Ну-ка сейчас поглядим, что у нас с законом Бойля-Мариотта.
Он одним движением резанул больного и вскрикнул от боли. -- Черт, что же они без
наркоза режут? -- Подумал Михаил Антонович. А впрочем, некогда, ситуация
критическая. В глазах пошли разноцветные круги, из которых постепенно возникли
кадры Бондарчука "Война и Мир", но не батальная сцена, а именно взгляд из телеги
смертельно ранеными глазами Андрея Волконского. Доктор не любил Толстого, и ему
было обидно смотреть эту картину именно сейчас. Впрочем, небо стало как-то
тяжело крениться, и появился кусок Бородинского поля. Оно было видно сквозь
тонкие сухие стебли овса, подложенного для мягкости в телегу. Полки наступали,
конница обходила флангом, на пригорке в белых обтягивающих толстенные икры
панталонах сидел император. Но все это было скорее в его голове, а на самом деле
сражение уже покрывалось дымкой, будто его телега была аэропланом. Вскоре в
сиреневом тумане покрытый показался город. Отсюда он напоминал Москву.
-- Пристегните ремни, -- послышался голос с неба. -- Через несколько минут наша
телега совершит посадку в городе Париже.
-- Но как же Париж? -- удивился доктор, -- Там Эйфелева, а здесь Останкинская! В
небе кто-то засмеялся и пояснил:
-- Ах, Михаил Антонович, право, как же так, всю жизнь мечтали, а когда мечта
замаячила, не признали. Да ведь это и есть, доктор, наш Будущий Париж!
-- Но отчего он так пульсирует.
Доктор видел, как вся панорама стала подергиваться, будто их телега попала в
турбулентный слой.
-- Так ведь Париж этот в вашем сердце, Михаил Антонович.
-- Отлично, -- быстро вспомнил доктор и уверенно щелкнул ремнем, -- Я знал что,
так и будет.
32
Куда идти? Без разницы, все и так при нем. Слепые московские окна и их негасимая
квадратная чернота. Сейчас Москва ему представлялась геометрической проекцией
прошлого на плоскость настоящего, подвешенную в неведомой пустоте
перпендикулярно линии времени. Неоспоримым доказательством этого были названия
московских улиц. Его всегда забавляли московские улицы. Где еще, в каком мире
или в каких временах могли бы пересечься Ломоносов с Ганди или Ленин с
Лобачевским? Уж конечно, не в Нью-Йорке, и даже не в Париже, хотя, хотя, вот,
например, во Флоренции есть улица Гагарина, и пересекает ее какая-нибудь виа
Гарибальди. Но здесь столпотворение характеров и лиц похлеще. Интересно,
понимает ли еще кто-нибудь, сколько красивых мыслей возникает на московских
перекрестках?
Куда не пойди, везде есть над чем задуматься. Да он и в самом деле уже не стоял,
а шел, и как-то даже слишком быстро. Во всяком случае, пес не плелся, а бежал
трусцой за хозяином. Впрочем, что значит быстро? Сколько лет можно пройти за
пять минут? Да и зачем считать, если времени нет. Да и не помнит он ничего,
забыл, стер, убил, нет, впрочем, если он и забыл, то ноги-то помнят! Вот
удивительно, что в сию минуту он посмотрел на себя со стороны, и увидел две
бодро шагающие конечности. Где у них располагается память? Слышишь, Умка, ноги
сами шлепают, не признавая головного мозга. Пес почему-то заскулил, как-то очень
тревожно. Уже далеко позади осталась Манежная площадь, как и все остальное,
сильно опустевшая. Даже из ночных работниц было раз два и обчелся. Все-таки не
зря всеобщее образование народа происходило.
Старая площадь тоже была позади, а с ней Маросейка, и все-все Бульварное кольцо,
как странно, когда все позади, а что же тогда впереди? Что может быть там, ТАМ,
впереди, если ВСЕ позади? Пустота. Он присмотрелся, задумался, остановился, то
есть не задумался, а наоборот, перестал думать, впрочем, черт с ним, все слова,
от которых только суета и несварение мозгов. Он оглянулся. Вокруг теперь было
совсем не то, что раньше. Оно было огромным, нежным, сладким, и одновременно
тревожным и даже страшным. Он попытался припомнить нечто подобное, найти
какую-то остроумную метафору, как обычно это и делал, стараясь расчленить на
более простые и понятные части, но оно не хотело ни на что и ни с кем делиться.
Оно желало быть только самим собой, и в то же время поглощало все остальное,
включая и пса, и особенно его хозяина. Нет, нет, кажется, и в нем есть прорехи,
сейчас мелькнуло что-то и в нем свое... Вадим похлопал по карманам, будто что-то
искал. Да нет, стихи не могли быть в карманах. Они могли быть только в голове, в
памяти, а там все позади. Оно, кажется, насторожилось и слегка отодвинулось,
освободив небольшой проем или, лучше сказать, промежуток, куда сразу устремилась
его фантазия.
Наверное, так же в неизлечимых палатах на минуту отступает раковая опухоль,
когда кто-нибудь расскажет анекдот. Дурацкая и мерзкая аналогия. Я вовсе не
болен, во всяком случае не безнадежно, вот он мой проемчик, вот щель, вот
промежуток, подпол, стена , уступ, холодный серый камень, как много в этом звуке
для сердца, в сердце пламень едва горел подобно детским ищущим в ночи ребро
седьмое цифра семь трамвайным счастьем движется к мостам Санкт-Петербурга
кренясь, ломая вертикаль и освещая черный медленный буксир, кричащий о душе, что
помнит смену караула у главного поста, где ночь и день передают судьбу, как
палочку, атлеты... жизнь, жизнь прошла, остановите, стойте, раз сомкните
разъединенные черты, пусть будет все ОНО, без швов и узелков, я с ним хочу лицом
к лицу без страха и расчета, как есть стоять в ночи, сомкнись же надо мной,
высокая река, я рыба для тебя, ты мне -- рука, запястье и плечо, ах, плечико
какое и ключица, но плечико прекрасней, ведь оно -- ОНО, тоскует по устам, тепла
ли в них еще моя граница, моя поверхность, под которой бьется кровь всех раненых
в сердца...
Нет, не то, стихи не то, рифма убивает жизнь, хотя в ней так много пустоты... В
ком? В чем? Неважно, важно не поддаваться, но как же хочется рабства, приди,
приди, заполни все не занятое пустотой, без тебя она не слишком пуста. Так
исчезают звезды, когда является солнце, что я несу, подумал Вадим, пусть просто
встанет рядом, и я скажу, моя девочка, посмотри вокруг -- здесь только мы, я и
этот ободранный пес, и эта Москва, все притихло и ждет твоего слова, впрочем,
ветер, но ветер принесет что-нибудь, другое, забытое, и желанное, как первый
снег.
Проем исчез, сошел на нет, и Вадим слился с серой холодной поверхностью. Он
чувствовал себя теперь не властелином мира, ни гуру, а просто архитектурным
излишеством на китайской стене советского реализма. Конечно, здесь минутная
слабость, уговаривал он себя, но как сладко длится эта прелестная минутка, он
так и назвал ее про себя прелестной минуткой, в безлунном мраке московской ночи,
в тени теней, в нижнем правом углу черного проема парадной двери. Прыгая с
обрыва, не забудь захватить кого-нибудь с собой, -- хотелось написать на стене
рядышком с мемориальной доской. Послышались шаги. Цок. Цок. Цок. Темно. Неясная
фигура на коне замаячила на спуске, приостановилась, наверное, заметила. Щелкнул
затвор, как маленький карабинчик, на дамской сумочке. Двинулась к нему. Характер
известный, с пути не свернет.
-- Ты? -- донеслось до него.
Почему, злился на себя Вадим, именно в ее присутствии становлюсь безвольным
мальчишкой? С этим надо кончать.
-- Я, моя ласточка. -- Бодренько, сказал он и самому стало противно.
В чем ему теперь сомневаться, когда все свершилось, и он сам руководит всем.
Катерина рассмеялась.
-- Я ждал тебя, а ты все не приходила, отчего? Неужели тебе еще нужны какие-то
доказательства моей любви? Посмотри, -- он показал на серый бордюр, -- Видишь
здесь нарисована ласточка и стоит моя подпись.
На шершавой поверхности виднелся только перевернутый птичий хвост, напоминавший
логотип московского метрополитена. Рядом стояли инициалы В.Н.
-- Ты все исполнил, чего же еще не достает?
Вадим усмехнулся. Наверное, даже приторно, и от этого стал ерничать и лебезить.
-- Поговори со мной.
-- Как, и все? Неужто одним разговором удовлетворишься?
-- Им, им одним, моя девочка, несравненная, на что же еще мне, негодяю,
рассчитывать? Ведь я тогда от самой дачи шел, видел, как ты падала в грязь,
поднималась, хваталась испачканными руками за свои прекрасные волосы, вот,
кстати, и заколочка твоя, смотри, -- он разжал ладонь, -- видишь, запотела, а
вообще, как новая. Блеснул платиновый полумесяц в брильянтовых искорках.
-- Ах, почему я промахнулась тогда, подло промахнулась, пьяна была, да не
настолько, побоялась все-таки. А надо было бы...
-- В чем же проблема, -- Вадим шагнул на встречу, -- Ружье при вас, мадам, на
взводе, и я здесь, и никто не пьян, тьфу, не иначе как стихами заговорил,
впрочем, у меня есть слабое головокружение, но это ничего, целиться не мне,
хотя, если все это только мой дурной сон... нет, сны надо смотреть на трезвую
голову, давай, теперь не промахнись.
-- Стой там, -- твердо сказала Катерина, -- Не смей и думать, я застрелю.
Животные забеспокоились. Пес прижался к его ноге и поджал хвост. Конь гулко
перетаптывался.
-- Ха, забавно, как, обрати внимание, нет, правда, мне даже интересно, может ли
меня уничтожить моя же собственная фантазия, право в этом что-то есть, ну-ка
попробуем, -- Он шагнул навстречу и Катерина вскинула ружье.
-- Вот так-то лучше, черт с ним, если не убьешь, будешь моей, впрочем, ты уже
мне будешь не интересна, потому что будешь как все, как этот графоман
докторишка, который боится прочитать гиреболоид, знаешь, чего он боится, нет, не
смерти, чего ему, атеисту, смерти боятся, боится обнаружить мой талант,
понимаешь, опровергнуть боится себя, как Сальери, кстати, жаль Сальери, ведь он
знал истинную цену прекрасному, а не умел-с... ну что? -- Вадим еще сделал шаг.
Катерина выстрелила в пролетавшую над Садовым Кольцом изодранную тучу.
-- Вижу, заряжено, да я знал, что заряжено, можешь не сомневаться, стреляй, в
человека, который ради тебя сделал то, что никто еще никогда не делал в истории!
Стреляй, -- он подошел и взял еще дымящийся ствол, -- Нарезное? Не положено-с,
ну да ладно, сейчас время неположенного, как там на охоте, помнишь, под
Смоленском, солнце, снег, и мы, правда, еще зайцы, здоровая такая матрена, с
выводком, ах, ее ты не пожалела, а я тогда, дурак, напился, да водка дрянь была,
сивуха... давай, давай я тебе помогу, -- он подправил дуло к сердцу, -- Что там,
заела собачка или порох отсырел, ну давай, -- раздался щелчок, будто осечка, --
Ах неудача, есть патроны еще? Ну, ну, не плачь, глупая любимая девочка, иди, иди
ко мне, -- Катерина безвольно соскользнула, как отвязанная попона с коня, и
Вадим обнял ее.
Катерина закрыла глаза и положила голову на его плечо.



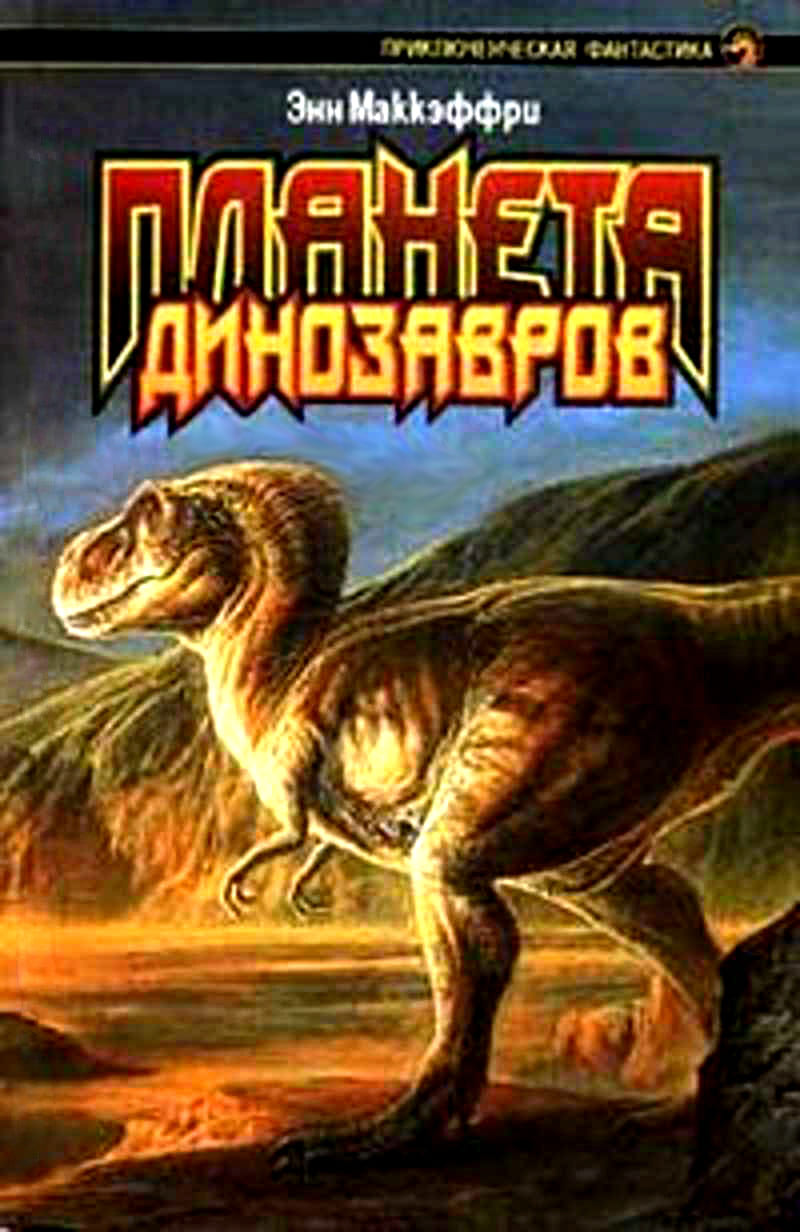


 Андреев Николай
Андреев Николай Шилова Юлия
Шилова Юлия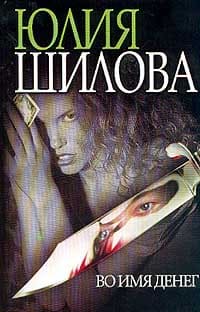 Шилова Юлия
Шилова Юлия Шилова Юлия
Шилова Юлия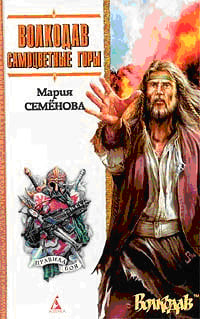 Семенова Мария
Семенова Мария Белов Вольф
Белов Вольф