переменить тему.
Неудача расстроила ему нервы.
он -- отправиться на добычу мяса.
отправиться на равнину за сернобыком. А быть может, сернобык попадется вам
завтра же, когда пойдете добывать мясо.
днях, когда карабкался по холмам под палящим солнцем, выходил на охоту чуть
свет, возвращался вечером, преследовал зверей, чье суахильское название ему
никак не удавалось запомнить, пользовался услугами следопытов, которым не
доверял, обедал в одиночестве, не имея с кем слова сказать, тосковал о жене,
от которой его отделяло девять тысяч миль и три месяца разлуки, и думал,
думал без конца: как там его собака и как там на службе, и будь они все
неладны, эти звери, куда они попрятались, и неужели он промахнулся, когда
стрелял, нет, не может этого быть, в ответственный момент невозможно
промахнуться, просто невозможно, в это он свято верил... ну, а вдруг он от
волнения все-таки промахнулся? И писем все нет и нет... Но проводник ведь
сказал тогда, что это конгони, ну конечно, все они так сказали, он точно
помнит. Однако в разговоре с нами Карл ни словом не обмолвился насчет этого,
а сказал только: "Будь по-вашему", -- довольно безнадежным тоном.
подгонять и тормошить его. Ну, да все наладится. Он молодчина.
раздражал его, -- сказал я. -- Для него самое мучительное -- стрелять на
глазах у других. Он человек скромный, не то что я.
он отличный стрелок. Любому из нас даст сто очков вперед. Но он нервничает,
а я все время подгоняю его и только еще больше расстраиваю.
обижается.
Главное -- надеяться на себя. Ведь глаз у него верный.
льва, -- отозвался я. -- Ему грех жаловаться.
леопарда. Вся его добыча -- первый сорт. Впереди еще масса времени. Ему
нечего огорчаться. Чего же он ходит как в воду опущенный?
чем станет слишком жарко для маленькой Мемсаиб.
ничего интересного. После ужина все сидели в палатке. Мама была возмущена,
что ее сравнили с терьером. Если уж походить на собаку, -- что ей вовсе не
улыбалось, -- она предпочла бы поджарую, длинноногую овчарку, породистую и
красивую. Мужество Мамы было так естественно, в нем было столько
непосредственности, что она даже не думала об опасности; кроме того, от
опасностей нас оберегал Старик, а к нему она питала безграничное доверие и
откровенно обожала его. Старик был для нее идеалом мужчины, -- храбрый,
великодушный, умный и не лишенный чувства юмора, чуткий и терпимый, он
никогда не выходил из себя, не хвастал, не жаловался -- разве что в шутку,
-- любил выпить, как и положено настоящему мужчине, и, по ее мнению, был
очень красив.
некрасив?
если он красив.
испытываю, правда?
его Стариком. Это неуважительно.
ты помог напечататься, а она в благодарность тебя же сопляком обзывает.
люди этого не прощают.
пустую болтовню и саморекламу.
не отправится на тот свет. И знаешь, что забавно, -- ей никогда не удавались
диалоги. Получалось просто ужасно. Она научилась у меня и использовала это в
своей книжке. Раньше она так не писала. С тех пор она уже не могла мне
простить, что научилась этому у меня, и боялась, как бы читатели не
сообразили, что к чему, вот и напустилась на меня. Просто смех и грех. Но
право же, она была чертовски мила, покуда не начала задирать нос. В то время
она тебе понравилась бы, я уверен.
здесь, правда? Вдали от всех этих людей.
хорошо, сколько помню.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
спустились под уклон, пересекли холмы и лесистую долину, потом долго
поднимались на взгорье, заросшее травой, такой высокой, что сквозь нее
трудно было пробираться, и все дальше, дальше отдыхая иногда в тени
деревьев, потом снова то под уклон, то в гору, теперь уже все время --сквозь
высокую траву, которую приходилось приминать, чтобы проложить по ней путь, и
все это под палящими лучами солнца. Шли мы гуськом, обливаясь потом; Друпи и
М'Кола были увешаны сумками, флягами с водой и фотокамерами, не считая двух
тяжелых винтовок, у меня и у Старика тоже были винтовки, а Мемсаиб шла,
стараясь перенять походку Друпи, свою широкополую шляпу сдвинув набекрень, и
такая счастливая, что она с нами, такая довольная, что сапоги у нее не жмут;
и вот все пятеро мы подошли наконец к колючей заросли над ущельем, которое
тянулось от горного кряжа к ручью, прислонили винтовки к стволам деревьев, а
сами нырнули в густую тень и легли там на землю. Мама достала книги из
сумки, и они со Стариком стали читать, а я спустился вниз по ущелью к
ручейку, который бежал с горного склона, нашел там свежие львиные следы и
множество ходов, промятых носорогами в высокой, выше головы, траве.
Взбираться обратно вверх по песчаному склону ущелья было жарко, и, одолев
подъем, я с удовольствием уселся под деревом, прислонился к нему спиной и
открыл "Севастопольские рассказы" Толстого. Книга эта очень молодая, в ней
есть прекрасное описание боя, когда французы идут на штурм бастионов, и я
задумался о Толстом и о том огромном преимуществе, которое дает писателю
военный опыт. Война одна из самых важных тем, и притом такая, когда труднее
всего писать правдиво, и писатели, не видавшие войны, из зависти стараются
убедить и себя и других, что тема эта незначительная, или
противоестественная, или нездоровая, тогда как на самом деле им просто не
пришлось испытать того, чего ничем нельзя возместить. Потом "Севастопольские
рассказы" навели меня на воспоминания о Севастопольском бульваре в Париже, о
том, как я ездил по нему на велосипеде, под дождем возвращаясь домой из
Страсбурга, и какие скользкие были трамвайные рельсы, и каково ехать людной
улицей под дождем по маслянисто-скользкому асфальту и булыжной мостовой, и о
том, как мы чуть было не поселились тогда на бульваре Тампль, и я вспомнил
ту квартиру -- обстановку и обои, -- но вместо нее мы сняли верх домика на
улице Нотр-Дам де Шан во дворе, где была лесопилка {(и внезапное
взвизгивание пилы, запах опилок, каштан, поднимавшийся над крышей, и






 Андреев Николай
Андреев Николай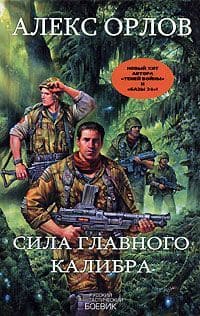 Орлов Алекс
Орлов Алекс Перумов Ник
Перумов Ник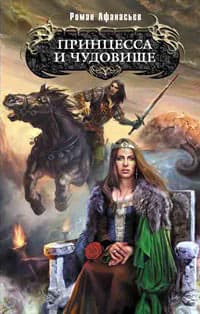 Афанасьев Роман
Афанасьев Роман Апраксина Татьяна
Апраксина Татьяна Чернецов Андрей
Чернецов Андрей