неприятно, чтобы другие помнили и могли напомнить об этой лионской черной
мессе.
пока это только спектакль и нелепый маскарад. Кровь еще не пролилась. Но уже
на следующее утро консулы запираются в уединенном, неприступном доме;
вооруженная стража охраняет его от посторонних; дверь заперта, словно
символически преграждая доступ всякому снисхождению, всякой просьбе.
Создается революционный трибунал, и письмо Конвенту возвещает, какую ужасную
Варфоломеевскую ночь задумали народные короли Фуше и Колло: "Мы исполняем
нашу миссию с энергией стойких республиканцев и не намерены спускаться с той
высоты, на которую нас возвел народ, ради соблюдения жалких интересов
нескольких более или менее виновных людей. Мы отстранили от себя всех, ибо
не хотим ни терять времени, ни оказывать милости. Мы видим только
республику, повелевающую нам дать лионцам примерный и памятный урок. Мы
слышим только вопль народа, требующего быстрой и страшной мести за казнь
патриотов, чтобы человечеству не пришлось впредь проливать потоки крови.
Уверенные в том, что в этом подлом городе нет иных невинных, кроме тех, кого
убийцы народа угнетали и заключали в тюрьмы, мы относимся недоверчиво к
слезам раскаяния. Ничто не может обезоружить нашу суровость. Мы должны вам
сознаться, граждане коллеги, что на снисходительность мы смотрим как на
опасную слабость, способную вновь воспламенить преступные надежды в тот
момент, когда их нужно погасить навсегда. Оказать снисхождение одному
человеку - значит оказать его всем подобным ему, и тогда воздействие вашего
правосудия будет недействительным. Разрушение подвигается слишком медленно,
республиканское нетерпение требует решительных мер: только взрывы мин,
пожирающая работа пламени могут выразить гневную силу народа. Исполнение его
воли не должно задерживаться, как исполнение воли тиранов, оно должно быть
разрушительным, как буря".
отголоски грозно раскатываются по всей Франции. Рано утром выводят из тюрьмы
шестьдесят юношей, связанных по двое. Но их ведут не к гильотине, работающей
"слишком медленно", по выражению Фуше, а на равнину Бротто, по ту сторону
Роны. Две параллельные наспех вырытые канавы дают жертвам понять ожидающую
их судьбу, а поставленные в десяти шагах от них пушки указывают на средство
этой массовой бойни. Беззащитных людей собирают и связывают в кричащий,
трепещущий, воющий, неистовствующий, тщетно сопротивляющийся клубок
человеческого отчаяния. Звучит команда - и из смертельно близких пушечных
жерл в трясущуюся от ужаса человеческую массу врывается разящий свинец. Этот
первый выстрел не убивает всех обреченных, у некоторых только оторваны руки
или ноги, у других разорваны внутренности, некоторые даже случайно уцелели.
Но пока кровь широким струящимся потоком стекает в канавы, звучит новая
команда, и теперь уже кавалеристы набрасываются с саблями и пистолетами на
уцелевших, рубят и расстреливают дрожащее, стонущее, вопящее, беззащитное и
не могущее бежать человеческое стадо, пока не замирает последний хрип. В
награду за убийство палачам разрешается снять одежду и обувь с шестидесяти
еще теплых трупов, прежде чем закопать их истерзанными и обнаженными.
министра христианнейшего короля, и на следующий день он гордо хвастает в
пламенной прокламации: "Народные представители останутся твердыми в
исполнении доверенной им миссии, народ вложил в их руки громы своей мести, и
они сохранят их, пока не будут уничтожены все враги свободы. У них хватит
мужества спокойно шагать вдоль длиннейших рядов могил заговорщиков, чтобы,
шагая через развалины, прийти к счастью нации и обновлению мира". И в тот же
день это печальное "мужество" еще раз подтверждается смертоносными пушками
на равнине Бротто; на этот раз перед ними еще большее стадо. Двести десять
голов убойного скота выводят со связанными за спиной руками, и через
несколько минут их укладывают картечь и залпы пехоты. Процедура остается той
же, только на этот раз мясникам облегчают неприятную работу - их освобождают
после столь утомительной резни от обязанностей могильщиков. Зачем этим
негодяям могилы? Сняв окровавленные сапоги со сведенных судорогой ног,
обнаженные, подчас еще корчащиеся тела просто бросают в текучую могилу Роны.
в мировой истории, Жозеф Фуше еще облекает покровом восторженных слов. Даже
то, что воды Роны заражены трупами, он прославляет как политический подвиг,-
дескать, донесенные течением до Тулона, они послужат наглядным примером
неумолимой страшной мести республиканцев. "Необходимо,- пишет он,-чтобы
окровавленные тела, брошенные в Рону, доплыли вдоль обоих берегов до устья,
до подлого Тулона: они возбудят ужас у трусливых и жестоких англичан,
ужаснут их и покажут им силу народного всемогущества". В самом Лионе такое
устрашение уже излишне, ибо казнь продолжает следовать за казнью, гекатомба
за гекатомбой. Взятие Тулона Фуше приветствует "слезами радости" и в честь
радостного дня "посылает на расстрел двести мятежников". Все мольбы о пощаде
тщетны.
освобождении их мужей, поставили связанными у гильотины; никого из
пытающихся просить о снисхождении не подпускают даже к дому народных
представителей. Но чем неистовее грохочут залпы, тем громче раздаются слова
проконсулов: "Да, мы осмеливаемся это утверждать, мы пролили немало нечистой
крови, но лишь во имя человечности и исполнения долга... Мы не выпустим из
рук молнию, которую вы доверили нашим рукам, пока вы не прикажете нам этого.
До тех пор мы будем беспрерывно продолжать убивать наших врагов, мы истребим
их самым совершенным, самым ужасным и самым быстрым способом".
на этот раз, в виде исключения, Жозеф Фуше сказал правду.
Фуше и его коллега не забывают о другом печальном поручении Конвента. В
первый же день по прибытии они посылают в Париж жалобу, утверждая, что
предписанное разрушение города "слишком медленно" совершалось их
предшественником, "теперь мины должны ускорить дело разрушения; саперы уже
приступили к работе, и в течение двух дней здания Белькура будут взорваны".
Эти знаменитые фасады, начатые в царствование Людовика XIV, построенные
учеником Мансара, были, как самые лучшие, предназначены к уничтожению
первыми. Жители грубо изгоняются из домов, и сотни безработных, женщины и
мужчины, за несколько недель бессмысленно разрушительной работы превращают
великолепные произведения архитектуры в груды мусора. Несчастный город
наполнен воплями и стонами, треском выстрелов и грохотом рушащихся зданий;
пока комитет de justice14 уничтожает людей, а комитет de
demolition15 - дома, комитет des substances16 проводит
беспощадную реквизицию съестных припасов, тканей и ценных вещей.
людей и спрятанных драгоценностей; везде царит террор двоих - Фуше и Колло,
незримых и недоступных, прячущихся в доме, оберегаемом стражей. Лучшие
дворцы уже разрушены, тюрьмы хотя и пополняются заново, но все же наполовину
пусты, магазины очищены, и поля Бротто пропитались кровью тысяч казненных; в
конце концов несколько граждан решаются (пусть это будет им стоить жизни!)
отправиться в Париж и подать Конвенту прошение о сохранении оставшейся части
города. Конечно, текст этого прошения очень осторожен, даже раболепен; они
трусливо начинают с поклонов, восхваляя декрет, достойный Герострата,
который "словно продиктован гением римского сената". Но затем они просят о
"пощаде для искренне раскаявшихся, для заблудившихся, о пощаде - мы
осмеливаемся так выразиться - для невинных, несправедливо обвиненных".
красноречивый из них, летит курьерской почтой, чтобы своевременно
отпарировать удар. На следующий день у него хватает дерзости, вместо того
чтобы оправдываться, восхвалять в Конвенте и в клубе якобинцев массовые
казни как особую "гуманность". "Мы хотели,- говорит он,- освободить
человечество от ужасного зрелища слишком многих казней, следующих одна за
другой, поэтому комиссары решили уничтожить в один день осужденных и
предателей; это желание вызвано подлинной чувствительностью (veritable
sensibilite)". И у якобинцев он еще пламеннее, чем в Конвенте, восторгается
этой "гуманной" системой. "Да, мы уничтожили двести осужденных одним залпом,
и нас упрекают за это. Разве не понятно само собой, что это было актом
гуманности! Когда гильотинируют двадцать человек, то последний из осужденных
двадцать раз переживает казнь, в то время как таким путем двадцать
предателей погибают одновременно". И действительно, эти избитые фразы,
поспешно выуженные из кровавой чернильницы революционного жаргона,
производят впечатление: Конвент и якобинцы одобряют объяснения Колло и тем
самым дают проконсулам санкцию на новые расправы. В тот же день Париж
чествует перенесение праха Шалье в Пантеон - честь, оказанная до тех пор
только Жан Жаку Руссо и Марату,- и его возлюбленной, так же как и
возлюбленной Марата, назначают пенсию. Таким образом, этот мученик публично
объявлен национальным святым, и все насилия Фуше и Колло одобрены как
справедливая месть.
обстановка в Конвенте, колебания между Дантоном и Робеспьером, между
умеренностью и террором требуют удвоенной осторожности. И вот они решают
разделить роли: Колло д'Эрбуа остается в Париже, чтобы следить за
настроениями Комитета и Конвента, чтобы заранее со своей напористой
ораторской страстностью разгромить всякое возможное нападение, продолжение
же убийств предоставляется "энергии" Фуше. Важно установить, что в то время
Жозеф Фуше был неограниченным самодержцем, ибо впоследствии он ловко
пытается приписать все насилия своему более откровенному коллеге; но факты
свидетельствуют, что и в то время, когда он повелевал единолично, коса
смерти бушевала не менее убийственно. Расстреливают пятьдесят четыре,
шестьдесят, сто человек в день; и в отсутствие Колло, как и прежде, рушатся
стены, разграбляются и сжигаются дома, тюрьмы опустошаются казнями, и
попрежнему Жозеф Фуше старается заглушить свои собственные деяния
восторженными кровавыми, словами:
успокаивают и утешают народ, внемлющий им и одобряющий их. Неправы те, кто


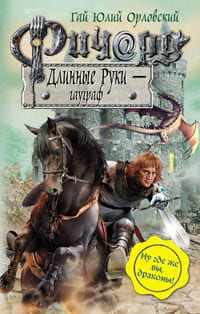


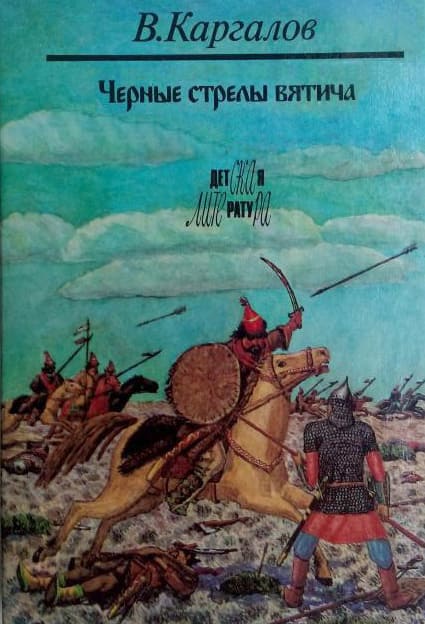
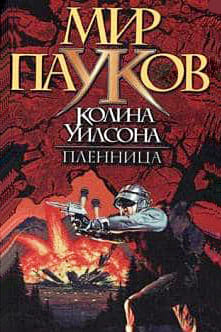 Прозоров Александр
Прозоров Александр Лукин Евгений
Лукин Евгений Корнев Павел
Корнев Павел Андреев Николай
Андреев Николай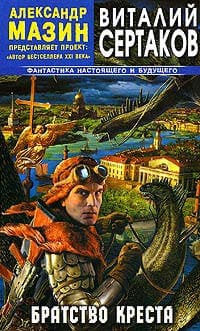 Сертаков Виталий
Сертаков Виталий Посняков Андрей
Посняков Андрей