текста приветствия могло быть случайной, невольной обмолвкой. Если именно
Хуан де Картахена велит титуловать его не адмиралом (capitan-general), а
просто капитаном ( capitan), то этим всей флотилии дается понять, что
conjuncta persona, Хуан де Картахена, не признает его своим начальником. Он
немедленно велит передать Хуану, что впредь надеется быть приветствуемым
достойным и подобающим образом. Но теперь и Хуан подымает забрало. Он шлет
высокомерный ответ: он сожалеет, что на этот раз он еще поручил своему
ближайшему помощнику произнести приветствие; в следующий раз это может
сделать любой юнга. Три дня подряд <Сан-Антонио> на глазах у всей флотилии
не соблюдает церемонии приветствия и рапорта, дабы показать всем остальным,
что его капитан не признает неограниченной диктатуры португальского
командира. Совершенно открыто - и это делает честь Хуану де Картахене,
никогда (сколько бы ни утверждали противное) не действовавшему вероломно -
испанский идальго бросает железную перчатку к ногам португальца.
минуты. Только опасность выявляет скрытые силы и способности человека; все
эти потаенные свойства, при средней температуре лежащие ниже уровня
измеримости, обретают пластическую форму лишь в подобные критические
мгновения. Магеллан всегда одинаково реагирует на опасность. Каждый раз,
когда дело касается важных решений, он становится устрашающе молчаливым и
неприступным. Он словно застывает. Какое бы тяжкое оскорбление ему ни было
нанесено, его затененные кустистыми бровями глаза не загорятся огнем, ни
одна складка не дрогнет вокруг плотно сжатых губ. Он в совершенстве владеет
собой, и благодаря этому ледяному спокойствию все вещи становятся для него
прозрачными, как хрусталь; замуровавшись в ледяное молчание, он лучше всего
продумывает и рассчитывает свои планы. Никогда в жизни Магеллан не нанес
удара необдуманно, сгоряча: прежде чем сверкнет молния, грозовой тучей
нависает долгое, гнетущее, мрачное молчание. И на этот раз Магеллан молчит;
тем, кто его не знает - а испанцы еще не знают его - может показаться, что
он оставил брошенный Хуаном де Картахеной вызов без внимания. На деле
Магеллан уже вооружается для контратаки. Он понимает, что нельзя в открытом
море насильственно сместить капитана корабля, более крупного, чем
флагманский, и лучше вооруженного. Итак, терпение, терпение: лучше
притвориться тупым, равнодушным. И Магеллан в ответ на оскорбление молчит
так, как он один умеет молчать: с одержимостью фанатика, с упорством
крестьянина, со страстностью игрока. Все вокруг видят, как он спокойно
расхаживает по палубе <Тринидад>, внешне всецело поглощенный будничными,
ничтожными мелочами корабельной жизни. То, что <Сан-Антонио> перестал
соблюдать приказ о вечернем рапорте, словно и не раздражает его, и капитаны
с некоторым удивлением замечают, что этот загадочный человек начинает
держать себя более доступно: по поводу совершенного одним из матросов
тяжкого преступления против нравственности адмирал впервые приглашает к себе
на совещание всех четырех капитанов. Значит, думают они, его все же стали
тяготить неприязненные отношения с сотоварищами. Видно, после того как
избранный им курс оказался ошибочным, он понял, что лучше спрашивать совета
у старых, опытных капитанов, чем почитать их quantite negligeable
45 . Хуан де Картахена тоже является на борт флагманского судна
и, воспользовавшись долго не представлявшейся ему возможностью вести с
Магелланом деловую беседу, снова спрашивает, почему собственно изменен курс.
Сообразно своему характеру и тщательно продуманному намерению. Магеллан
сохраняет полную невозмутимость: ему только на руку, если его спокойствие
сильнее распалит Картахену. А последний, считая, что звание верховного
королевского чиновника дает ему право критиковать действия Магеллана, по
видимому, изрядно воспользовался этим правом. Дело, вероятно, кончилось
бурной вспышкой, чем-то вроде резкого отказа повиноваться. Но превосходный
психолог, Магеллан именно такую вспышку открытого неподчинения заранее
предусмотрел, это ему и нужно. Теперь он может действовать. Он немедленно
применяет предоставленное ему Карлом V право вершить правосудие. Со словами:
велит своему альгвасилу (каптенармусу и полицейскому офицеру) заключить
мятежника под стражу.
раньше они всецело были на стороне Хуана де Картахены, да и сейчас еще в
душе стоят за своего соотечественника и против начальника-чужестранца. Но
внезапность нанесенного удара, демоническая энергия, с которой Магеллан
схватил своего врага и велел посадить его под арест как преступника,
парализовали их волю. Напрасно Хуан зовет их на помощь. Никто не смеет
тронуться с места, никто не дерзает даже поднять глаза на низкорослого,
коренастого человека, впервые позволившего своей пугающей энергии прорваться
сквозь глухую стену молчания. Только когда Хуана уже хотят отвести в
каземат, один из них обращается к Магеллану и почтительнейше просит, во
внимание к высокому происхождению Картахены, не заключать его в оковы;
достаточно, если кто-нибудь из них обязуется честным словом быть его
стражем. Магеллан принимает это предложение под условием, что Луис де
Мендоса, кому он поручает надзор за Хуаном, клятвенно обяжется по первому же
требованию представить его адмиралу. С этим делом покончено. По прошествии
часа на <Сан-Антонио> уже распоряжается другой испанский офицер - Антонио де
Кока; вечером он со своего корабля четко, без единого упущения, приветствует
адмирала. Плавание продолжается без каких-либо инцидентов. 29 ноября возглас
с марса возвещает, что виден берег Бразилии; они различают его очертания
близ Пернамбуко и, нигде не бросая якорей, продолжают свой путь; наконец, 13
декабря пять судов флотилии, после одиннадцатинедельного плавания, входят в
залив Рио де Жанейро.
прекрасный в своей идиллической живописности, чем ныне в своем городском
великолепии, должен был показаться усталому экипажу настоящим раем.
Нареченный Рио де Жанейро по имени святого Януария, в день которого он был
открыт, и ошибочно названный Рио 46, ибо предполагалось, что за
бесчисленными островами кроется устье многоводной реки, этот залив тогда уже
находился в сфере владычества Португалии. Согласно инструкции, Магеллану не
следовало становиться там на причал. Но португальцы еще не основали здесь
поселений, не воздвигли вооруженной пушками крепости; блистающий яркими
красками залив - в сущности все еще <ничья земля>; испанские суда могут
безбоязненно пройти среди волшебно прекрасных островков, окаймляющих берег,
одетый яркой зеленью, и без помехи бросить здесь якоря. Как только их шлюпки
приближаются к берегу, навстречу из хижин и лесов выбегают туземцы и с
любопытством, но без недоверия, встречают закованных в латы воинов. Они
вполне добродушны и приветливы, хотя позднее Пигафетта не без огорчения
узнает, что это завзятые людоеды, которым частенько случается накалывать
убитых врагов на вертел и затем разрезать на куски это лакомое жаркое,
словно мясо откормленного быка. Но богоподобные белые пришельцы не вызывают
у гварани таких вожделений, и солдаты избавлены от необходимости пускать в
ход громоздкие мушкеты и увесистые копья.
Пигафетта в своей стихии. Одиннадцатинедельное плавание дало честолюбивому
летописцу мало сюжетов: ему удалось сплести разве что несколько побасенок об
акулах и диковинных птицах. Арест Хуана де Картахены он, судя по всему,
проспал, но зато сейчас ему едва хватает взятого с собой запаса перьев,
чтобы перечислять в дневнике все чудеса Нового Света. Правда, он не дает нам
представления о прекрасном ландшафте, но этого нельзя поставить ему в вину -
ведь только тремя веками позже описания природы были введены в обиход Жан
Жаком Руссо; зато его необычайно занимают ранее не известные ему плоды -
ананасы, <похожие на большие круглые еловые шишки, но чрезвычайно сладкие и
отменно вкусные>, далее бататы - их вкус напоминает ему каштаны - и
<сладкий> (то есть сахарный) тростник. Добрый малый не может прийти в себя
от восхищения, так невероятно дешево эти люди продают чужестранцам съестные
припасы. За одну удочку темнокожие дурни дают пять или шесть кур, за
гребенку - двух гусей, за маленькое зеркальце - десяток изумительно пестрых
попугаев, за ножницы - столько рыбы, что ею могут насытиться двенадцать
человек. За одну-единственную погремушку (напомним, что на судах их имелось
не менее двадцати тысяч штук) они приносят ему тяжелую, доверху наполненную
бататами корзину, за истрепанного короля из старой колоды - пять кур; при
этом гварани еще воображают, что надули неопытного Родосского рыцаря. Дешево
ценятся и девушки, о которых Пигафетта стыдливо пишет: <Единственное их
одеяние - длинные волосы; за топор или нож можно получить сразу двух-трех в
пожизненное пользование>.
время, деля его между едой, рыбной ловлей и покладистыми смуглыми девушками,
Магеллан думает только о дальнейшем плавании. Разумеется, он доволен, что
команда отдыхает и собирается с силами, но в то же время он поддерживает
строгую дисциплину. Памятуя данные им испанскому королю обязательства, он
запрещает покупку невольников на побережье Бразилии, а также какие бы то ни
было насильственные действия, чтобы у португальцев не возникло предлогов для
жалоб.
Убедившись, что белые люди не собираются причинять им ни малейшего зла,
туземцы утрачивают былую робость. Этот добродушный, ребячливый народец
толпами стекается на берег всякий раз, когда там торжественно отправляют
богослужение. С любопытством следят они за непонятными обрядами и, видя, что
белые пришельцы, с появлением которых они связывают то, что, наконец, выпал
долгожданный дождь, преклоняют колени перед воздетым крестом, в свою
очередь, молитвенно сложив руки, опускаются на колени, а благочестивые
испанцы принимают это за явный признак неосознанного проникновения таинств
христианской религии в души туземцев.
незабываемую, широко раскинувшуюся бухту, Магеллан может продолжать плавание
с более спокойной совестью, чем другие конквистадоры его времени. Ибо если
он и не завоевал здесь новых земель для своего государя, то, как добрый
христианин, приумножил число подданных небесного владыки. Никому за эти дни
не было причинено ни малейшей обиды, никто из доверчивых туземцев не был






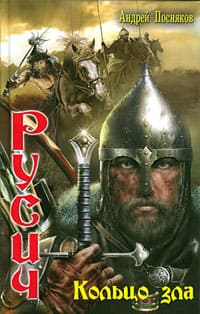 Посняков Андрей
Посняков Андрей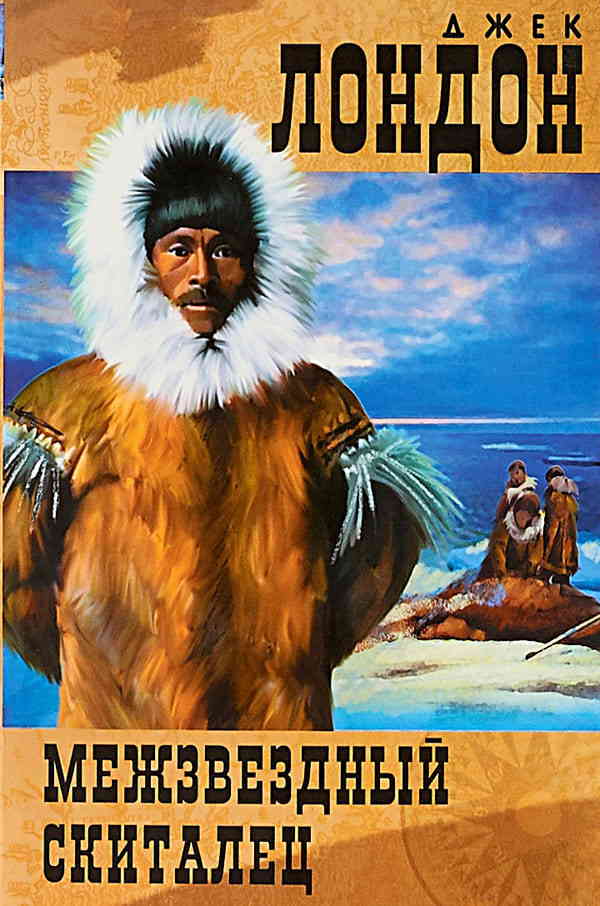 Лондон Джек
Лондон Джек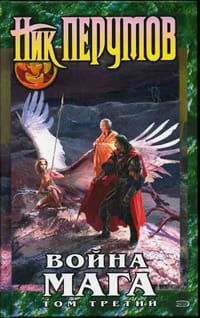 Перумов Ник
Перумов Ник Шилова Юлия
Шилова Юлия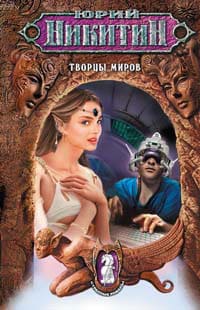 Никитин Юрий
Никитин Юрий Лондон Джек
Лондон Джек