тельнее и пламенней становились строки письма: она умоляла меня найти
утешение у более достойной женщины и сейчас же ей написать, потому что
она с трепетом думает о том, как я приму это известие. И в виде
постскриптума, карандашом, было еще приписано: "Не делай ничего безрас-
судного, пойми меня, прости меня".
его перелистал и начал читать вторично, то ощутил стыд, который быстро
превратился в тайный страх, как только я понял, почему мне стыдно. Ибо
ни одно из тех сильных и вполне понятных чувств, которые, естественно,
предвидела моя любовница, даже в слабой мере не шевельнулось во мне. Ее
сообщение не причинило мне боли, не вызвало во мне гнева, и уж во всяком
случае ни на мгновенье не пришло мне на ум какое-либо насилие над нею
или над собою; и этот мой душевный холод был уж слишком странен, чтобы
не испугать меня самого. Ведь от меня уходила женщина, несколько лет
бывшая спутницей моей жизни, женщина, чье теплое, гибкое тело прижима-
лось к моему, чье дыхание в долгие ночи сливалось с моим, - и ничто во
мне не шевельнулось, я не возмутился, не пытался завоевать ее снова; ни-
чего не произошло в моей душе из того, чего чистосердечно ожидала от ме-
ня эта женщина, как от любого живого человека. В эту минуту я впервые
по-настоящему понял, как далеко во мне подвинулся процесс окостенения: я
скользил по жизни, словно по быстро текущей зеркальной воде, нигде не
задерживаясь, не пуская корней, и очень хорошо знал, что в этом холоде
есть что-то от мертвеца, от трупа - пусть еще без гнилостного запаха
тления, но это душевное окоченение, эта жуткая, ледяная бесчувственность
уже словно предваряли подлинную зримую смерть.
ние чувств во мне - так больной следит за своей болезнью. Вскоре после
этого умер мой друг, и когда я шел за его гробом, то напряженно прислу-
шивался к самому себе: не пробудится ли во мне скорбь, не причинит ли
мне боль грустная мысль о том, что я навеки утратил близкого мне с детс-
ких лет человека? Но ничто не шевельнулось во мне, я сам себе казался
каким-то стеклянным колпаком, сквозь который все просвечивает, никогда
не проникая внутрь, и как я ни силился на похоронах друга, да и при мно-
гих подобных обстоятельствах, что-нибудь почувствовать или хоть доводами
рассудка возбудить в себе чувство, я не слышал отклика в своей душе.
Друзья покидали меня, женщины приходили и уходили - я ощущал это почти
так же, как человек, сидящий в комнате, ощущает дождь, который барабанит
в окно. Между мной и окружающим миром была какая-то стеклянная преграда,
а разбить ее усилием воли у меня не хватало мужества.
вызвало во мне подлинной тревоги, ибо, как я уже говорил, я равнодушно
относился даже к тому, что касалось меня самого. Я уже потерял способ-
ность испытывать огорчения. Я довольствовался тем, что этот духовный
изъян так же не заметен для посторонних, как неполноценность мужчины,
которая обнаруживается только в интимные мгновения; и часто, на людях, я
нарочно разыгрывал восторженность, повышенную восприимчивость, чтобы
скрыть, до какой степени я внутренне безучастен и мертв. Внешне я
по-прежнему жил в свое удовольствие, не зная ни забот, ни препятствий,
не сходя с однажды избранного пути; недели, месяцы неприметно скользили
мимо, медленно превращаясь в годы. Однажды утром я увидел в зеркале се-
дую прядь у себя на виске и понял, что моя молодость уже готовится отой-
ти в прошлое. Но то, что другие называют молодостью, для меня давно ми-
новало. Поэтому прощаться с нею было не очень больно; я ведь и собствен-
ную молодость любил недостаточно. Даже по отношению ко мне самому мое
строптивое сердце молчало.
нообразными, несмотря на пестроту занятий и мелких происшествий; одина-
ково тусклые, они следовали друг за другом, появлялись и блекли, как
листья на дереве. И так же обыденно, ничем не выделяясь, без всякого
предзнаменования, начался и тот единственный день, который я хочу самому
себе описать.
зотчетно повинуясь сохранившемуся со школьных лет ощущению воскресного
утра; принял ванну, прочел газету, полистал книги; затем пошел гулять,
прельстившись теплым летним солнцем, участливо заглядывавшим в мою ком-
нату; как всегда, прошелся по Грабену, где царило обычное праздничное
оживление; любовался потоком экипажей, обменивался поклонами с приятеля-
ми и знакомыми, перекидывался кое с кем из них несколькими словами. По-
том отправился обедать к своим друзьям. Я ни с кем не уславливался о
дальнейшем времяпрепровождении, потому что именно по воскресеньям я лю-
бил полностью располагать самим собою, отдаваясь на волю случая или ка-
кой-нибудь внезапной прихоти. Возвращаясь после обеда по Рингштрассе, я
любовался красотой залитого солнцем города, его ярким летним убранством.
Все люди казались веселыми и словно влюбленными в праздничную пестроту
улицы, многое радовало глаз, и прежде всего - пышный зеленый наряд де-
ревьев, росших прямо посреди асфальта. Хотя я здесь проходил почти ежед-
невно, эта воскресная сутолока вдруг восхитила меня, мне захотелось зе-
лени, ярких, сочных красок. Я невольно вспомнил о Пратере, где в эту по-
ру, когда весна переходит в лето, густолистые деревья, как исполинские
слуги в зеленых ливреях, стоят по обе стороны главной аллеи, по которой
тянется вереница экипажей, и протягивают свои белые цветы нарядной,
праздничной толпе. Привыкнув тотчас же уступать каждому, даже самому ми-
молетному, желанию, я остановил первый встретившийся мне фиакр и велел
кучеру ехать в Пратер. - На скачки, господин барон? - почтительно сказал
он, как нечто само собой разумеющееся. Тут только я вспомнил, что на
этот день назначены традиционные скачки, предшествующие розыгрышу дерби,
на которых бывает все фешенебельное венское общество. "Странно, - поду-
мал я, садясь в фиакр, - еще несколько лет тому назад было бы просто не-
мыслимо, чтобы я пропустил такой день, а тем более забыл о нем". По этой
забывчивости я снова, точно раненый, неосторожным движением разбередив-
ший свою рану, ощутил всю глубину овладевшего мной равнодушия.
скачки, должно быть, уже давно начались, потому что обычного потока пыш-
ных выездов не было видно, только единичные фиакры, под громкий стук ко-
пыт, мчались мимо нас, точно в погоне за невидимой целью. Кучер обернул-
ся ко мне и спросил, не подогнать ли и ему коней, но я сказал, чтобы он
не торопился, - мне было совершенно безразлично, опоздаю я или нет.
Слишком часто бывал я на скачках и наблюдал публику на ипподроме, чтобы
бояться опоздать, и в моем ленивом настроении мне больше нравилось мягко
покачиваться в коляске, ощущать нежный шелест голубеющего воздуха, слов-
но рокот моря на палубе корабля, и мирно созерцать каштаны в цвету, бро-
савшие вкрадчиво-теплому ветру свои лепестки, которые он, играя, подхва-
тывал и, покружив немного, снежинками ронял на землю. Приятно было пока-
чиваться, как в люльке, вдыхать весну с закрытыми глазами, чувствовать,
что без малейших усилий с твоей стороны тебя уносит куда-то; в сущности
я был недоволен, когда фиакр подъехал к воротам в Фройденау. Я охотно
повернул бы обратно, чтобы еще насладиться ясным, теплым днем раннего
лета. Но уже было поздно - фиакр остановился перед ипподромом.
трибунами, где шумела, скрытая от моих глаз, возбужденная толпа, и мне
невольно припомнилось, как в Остенде, когда узкими проулками идешь из
города на пляж, тебя уже обдает резким соленым ветром и слышится глухой
рев еще прежде, чем взору открывается пенистый серый простор, по которо-
му ходят гремящие валы. Очередной заезд, видимо, начался, но между мною
и кругом, по которому скакали теперь лошади, теснилась пестрая, гудящая,
словно потрясаемая бурей, толпа игроков и зрителей; сам я не видел до-
рожки, но все перипетии скачки отражались на поведении окружающих, и я
мог свободно следить за ней. Лошади, очевидно, давно были пущены и уже
вытянулись в ряд, две-три вырвались вперед и боролись за лидирующее мес-
то, потому что из толпы, остро переживавшей незримое для меня состяза-
ние, уже неслись крики и ободряющие возгласы. Все взгляды были устремле-
ны в одну точку, и я понял, что скачка достигла поворота; толпа словно
обратилась в однуединственную вытянутую шею, и тысячи отдельных звуков,
вырываясь, казалось, из одной-единственной гортани, сливались в ревущий,
клокочущий прибой. И этот прибой вздымался выше и выше, он уже заполнил
все пространство, вплоть до безмятежного синего неба. Я вгляделся в нес-
колько ближайших лиц. Они были искажены как бы внутренней судорогой, го-
рящие глаза выпучены, губы прикушены, подбородок алчно выставлен вперед,
ноздри раздуты, точно у лошади. И смешно и жутко было мне, трезвому,
смотреть на этих не владеющих собой, пьяных от азарта людей. Рядом со
мною стоял на стуле мужчина, щегольски одетый и, вероятно, приятной на-
ружности; теперь же, одержимый незримым дьяволом, он неистовствовал,
размахивал тростью, словно кого-то подхлестывая, и безотчетно подражал
движениям жокея, подгоняющего скачущую лошадь, что для стороннего наблю-
дателя было невыразимо комично; точно упираясь в стремена, он непрестан-
но переступал с каблука на носок, правой рукой беспрерывно рассекал воз-
дух, работая тростью, словно хлыстом, левой судорожно сжимал афишу. Та-
ких белых афиш кругом мелькало множество. Как брызги пены взлетали они
над этим яростно бурлящим человеческим морем. Теперь, по-видимому, нес-
колько лошадей шли на кривой почти голова в голову, потому что сразу
многоголосый рев раздробился на два, три, четыре имени, которые, как бо-
евой клич, выкрикивали отдельные группы, и исступленные вопли служили,
казалось, отдушинами для их горячечного бреда.
ана, и отчетливо помню, что испытывал в ту минуту. Меня смешили нелепые
телодвижения, перекошенные лица, и я с презрительной иронией поглядывал
на столь плебейскую несдержанность, но вместе с тем - и я лишь нехотя
признавался себе в этом - я слегка завидовал такому возбуждению, такой
одержимости, жизненной силе, таившейся в этом бешеном азарте. Что могло
бы случиться, чтоб до такой степени взволновать меня, думал я, привести



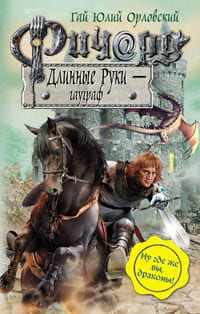

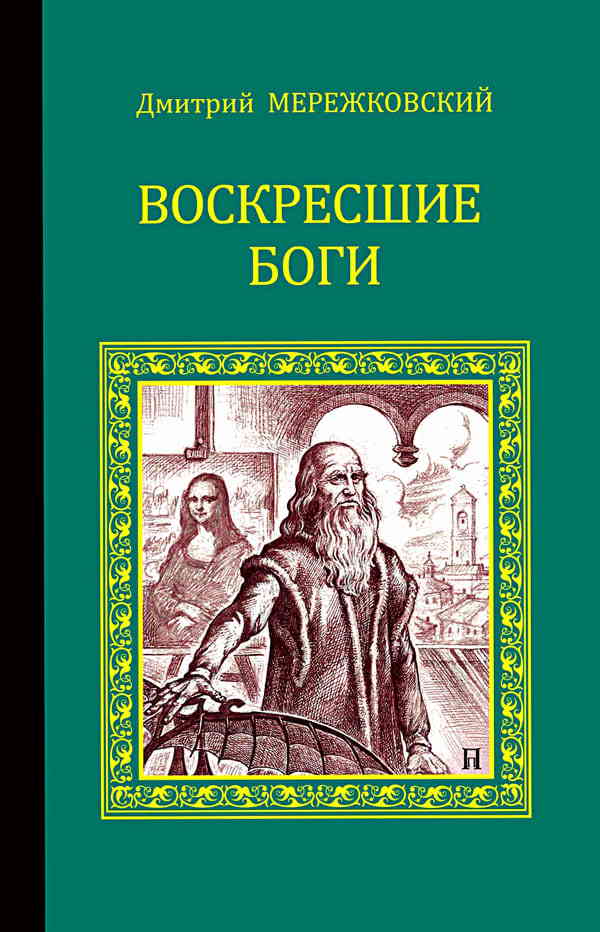
 Черепнин Владимир
Черепнин Владимир Маркеев Олег
Маркеев Олег Афанасьев Роман
Афанасьев Роман Посняков Андрей
Посняков Андрей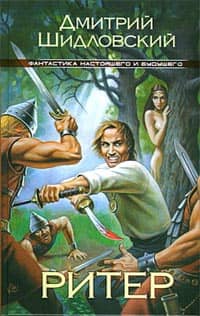 Шидловский Дмитрий
Шидловский Дмитрий Самойлова Елена
Самойлова Елена