тип явно знает объяснение, иначе не брызгал бы так слюной на свой листик
бумаги... Ну-ну... "Не знаете... - счастливо хохотал старик. - И таких
"специалистов" наш ректор выписывает из столиц только потому, что они из
"престижных" вузов! А я вам вот что скажу, дорогой. С хорошим специалистом
престижный вуз и сам ни за что не расстанется! Сюда может из Ленинграда
приехать только всякая..." - он внезапно осекся и отвернулся к своим
бумагам. Юрий вышел весь в поту. Ну и приёмчик. Как и у проректора
Замогильского. Тот, правда повежливей, но выразил ту же мысль... И с теми же
сварливыми интонациями. И с той же непонятной неприязнью, причем именно
только после того, как ознакомился с пятым пунктом.
себя и, тем более, для Вулкановича вернулся на кафедру Юрий. "Да! - после
короткой паузы горько закричал Ефим Яковлевич, наливаясь кровью. - Здесь
было так хорошо, пока сюда не понаехали вдруг евреи со всего Союза.
Проректор - еврей, я, теперь вы. Не считая этого психа Заманского! Знаете, к
чему это приведёт? Нет? К ожесточению изначально нормальных русских людей
против такого засилия и..." "Я вас понял, Ефим Яковлевич. Но вы по-моему
путаете два понятия, хоть и знаете, куда и почему загибается эта злополучная
кривая, а мне предстоит с этим ещё разобраться..." "Интересно, что же я
путаю, какие понятия?" "Еврей и жлоб, Ефим Яковлевич. Еврей может быть
жлобом, как вы, например, тогда ему мешают другие евреи. А может и
радоваться, что живёт среди своих." "А я и так живу среди своих! -
истерически заорал старик, рискуя сорвать голос и лопнуть от гордости. -
Я-то именно среди своих! Представьте себе, для меня свои - русские,
дальневосточники, комсомольчане, эти простые и открытые люди. А тот, кто
хочет жить среди жидов, пусть убирается в свой вонючий Израиль!.." Последние
слова Юрий услышал уже из-за с грохотом захлопнутой двери. Он опёрся на
подоконник и лихорадочно закурил.
популярного киногероя Пал Палыча. "Если не ошибаюсь, вы доцент Юрий
Ефремович Хадас? А я - новый закафедрой Валентин Антонович Попов, прошу
любить и жаловать, как говорится. В мае принял дела у уважаемого Ефима
Яковлевича, после двух десятилетий его бессменного руководства кафедрой и
моего десятилетнего незабываемого удовольствия работать под его чутким
научным руководством. По вашему состоянию я вижу, что... вы меня уже
понимаете. Естественно, я принял кафедру с его кадрами... Так что вам я
особенно рад." "Вы где так загорели, Валентин Антонович? В Крыму?" "Что вы,
у нас хоть и Север, но северные льготы не для преподавателей, и денег на
поездку на Запад не хватает. Обычно мы с семьёй проводим лето на островах
под Владивостоком, но этот отпуск я провёл в... тридцати метрах от
Комсомольска!.." "Это как же?" "Вошёл в бригаду верхолазов по покраске опор
линий электропередач. За страх неплохо платят. Коплю на "запорожец". Так что
у вас произошло с бывшим завом? Небось и вас он не преминул проверить на
своей параболе? Я так и знал! Это его единственная за всю жизнь
теоретическая работа, он прямо не знает, кому бы её продемонстрировать.
Дескать, как Эйнштейну достаточно было бы для его всемирной славы придумать
хоть одну свою формулу, так и Вулкановичу - эту параболу."
Юрий же начал свою первую в этих стенах лекцию привычно профессионально.
Традиционно на ней присутствовала вся кафедра, чтобы оценить и поддержать
нового коллегу. Впрочем, в особой поддержке доцент Хадас явно не нуждался,
мгновенно завоевав власть над десятками людей необычными оборотами прекрасно
поставленной столичной речи, неизвестными аудитории фактами, игрой
интонаций, скупыми жестами. Сотня глаз следила за каждым его движением,
десятки рук одновременно тянулись к конспектам, когда он небрежно ронял "и
отметьте, пожалуйста, что..." Власть лектора-аса, интеллекта над
интеллектами была так высока, что не было ни одного скучающего взгляда или
зевка, ни одной автоматической записи без предварительного глубокого
понимания. Ничего подобного пятикурсники и преподаватели в этом институте
ещё не видели. Даже Вулканович, явившийся со своей скептически-презрительной
миной и начавший было брезгливые кривляния, пожимания плечами и
демонстративную фиксацию отдельных мыслей, все эти знакомые Юрию по докладам
перед научными противниками маленькие мерзости, в конце концов подчинился
магии лекции, сидел взъерошенный, пришибленный и укрощённый. Молодёжь же с
кафедры, как и студенты, слушали Юрия уже не с уважением, а с обожанием.
автоматически влюбились, как в киногероя. В свою очередь, Юрий тотчас
выделил из женского состава аудитории статную даже за партой светловолосую
девушку со странным, словно потусторонним взглядом бездонных серых глаз,
смотревшую на него, как и все, приоткрыв рот. Но она слушала его не как
учителя, а именно как любимого, словно гордясь им перед другими, словно
сразу определила для себя будущий уровень их отношений раз и навсегда. Но
этот странный взгляд не мешал Юрию одарять своей профессиональной
"американской" улыбкой всех прочих девушек, каждая из которых тотчас сияла в
ответ, а также обращаться с оживляющими лекцию вопросами к наиболее
одарённым на первый взгляд юношам.
остроумия, что молодой доцент мысленно сейчас бесконечно далеко от этой
аудитории, этого института, города, впечатления, которое он производит на
студентов, коллег и начальство. Все его мысли занимало другое.
жене и сыне. Заболей они или попади в аварию, уйди он на фронт, погибни
кто-нибудь из них, какая это была бы семейная драма или трагедия! И вот в
одночасье он исчез для них, они - для него и - ничего! Развод - дело
житейское. Чего стоят на этом фоне все экранные и литературные
драмы-разлуки? Какова вообще цена основной клетки общества - семьи, если её
может походя разрушить жена и мать без малейшего на то согласия мужа-отца и
общего сына? Серёжка всю свою короткую жизнь считал часы до папиного
возвращения, готовил к обсуждению с отцом все свои нехитрые проблемы двора и
школы, беспокоился и не спал ночами, если папин самолёт задерживался где-то
по метеоусловиям. И вот любимая и любящая мама убивает любимого и любящего
папу на законном основании и под защитой общества. Все обеспокоены только
одним - как внушить сыну, что отец его вовсе не первый друг, а злобный
оборотень. Иначе сын теряет и мать... Общество не только освобождает Юрия от
всех обязательств перед сыном, но и запрещает ему иметь такие обязательства,
ибо Алла категорически отказалась от алиментов при условии полного разрыва
бывшего мужа с её сыном. Ему предоставлено право начать жизнь с чистого
листа в свои тридцать четыре, начать ну хоть вон с той красоткой, что так
победно, как на уже завоёванного, смотрит ему прямо в душу бездонным
взглядом широко поставленных глаз.
от мела на пути к кафедре. - Разведённый. Иди ты, это же ещё лучше..." Чего
лучше, в самом деле, сменить отнюдь не красавицу и в студенческие времена
Аллу на любую из его нынешних студенток, что минимум на десять лет младше. В
отличие от первого брака, у него, доцента-кандидата, без пяти минут доктора
наук, теперь практически нет конкурентов при завоевании внимания лучшей из
лучших. И нет никаких моральных препятствий для осуществления тщательно
подавляемых все эти десять лет романтических грёз о молодом и незнакомом
женском теле. Не барьер сейчас даже мечтательный паинька-отличник,
доверчивый очкарик Серёжа, которого в классе бьют даже девочки за то, что он
принципиально не учится драться, генетически не может ударить человека по
лицу...
своему лысому черепу неприятную улыбку при входе нового доцента и
старательно сохранял её, просматривая экзаменационную ведомость. - Так-таки
никто ничего не знает?" "Иначе не было бы двоек, Максим Борисович." "Двойки
- явление в вузе нежелательное, но неизбежное. Одна-две на группу. Но не
одни двойки на обе группы потока, включая ленинского степендиата, у которого
за четыре года, до вас, и четвёрки-то не было! Что вы по этому поводу мне
скажете?" "Только то, что я вам только что сказал - никто и ничего по
предмету уволившегося в мае доцента Гусакова не знает. Словно курс им не
вычитан." Проректор торопливо достал кафедральный журнал и чуть ли не ткнул
им Юрию в лицо: "Видите подписи Гусакова?" "Подписи вижу. Знаний не
обнаружил. Этот Гусаков инженер или?.." "Много на себя берёте, Юрий
Ефремович! У нас не принято поносить коллег, не тот коллектив! Не вам
называть дворником опытного преподавателя, который, между прочим, пошёл на
повышение... Да, он не узкий специалист в вашей области..." "Я не верю, что
все эти студенты кретины." "Спасибо вам большое, что вы хоть студентов
кретинами не считаете! Я убеждён также, что что-то они знают." "Что-то
знают. В рамках введения в специальность." "Так на тройку они знают?" "Для
четвёртого курса нет. За то, что они смогли произнести, у них стоит оценка
трёхлетней давности." "Не дотягивают до столичных требований? - ехидно
осведомился проректор, меняя улыбку на оскал. - По-вашему, и мы все тут
мозгами не вышли с вами на равных общаться?" "Я согласен сверх моей нагрузки
прочесть им сокращённый курс. И при плотной работе..." "Сверх вашей
нагрузки? Это не вам решать, что сверх, а что нет! Это мне решать, а не вам
решать! А студентам кто позволит заниматься лишние часы - без обеда? Вместо
текущей программы? Тоже вы сами? При плотной работе! А вы-то умеете это
самое - плотно работать?" "У вас есть основания в этом сомневаться?" "Я не
сомневаюсь только в одном: если эта тёмная история дойдёт до ректора, то нам
всем придётся туго. А хуже всех вам, Юрий Ефремович. Так что я бы на вашем
месте поставил всем тройки, раз вы сами сказали, что они кое-что знают. Для
этого и предусмотрена в вузе посредственная оценка. Одну-две четвёрки
сильным студентам и пятёрку - степендиату. И вопрос закрыт, идёт?" "А за что
пятёрку-то? Или в назидание, чтобы сам впредь занимался подлогом?" "Я вас
более... не смею задерживать, - проректор быстро пробежал на коротких ногах,
тряся низким задом, от стола к двери и распахнул её, словно беззвучно
выкрикнул: - Вон..."



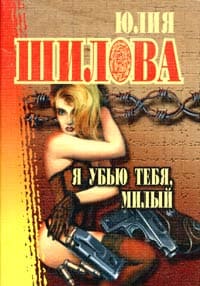


 Черепнин Владимир
Черепнин Владимир Сапковский Анджей
Сапковский Анджей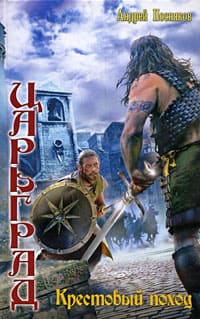 Посняков Андрей
Посняков Андрей Шилова Юлия
Шилова Юлия Херберт Фрэнк
Херберт Фрэнк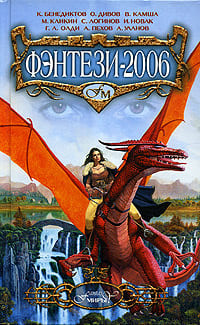 Пехов Алексей
Пехов Алексей