подбросит тяжелый короткий гром...
очень приятно было бы держать его в руке, любоваться им, если бы пальцы,
касаясь полированного металла, не вспоминали той лихорадочной поспешности,
с которой шарили они по ящичкам взломанной кассы, выгребая мятые истертые
ассигнации; если бы не застило взор видение багрового, заплывающего кровью
подтека на лбу старичка-антиквара, видение его стекленеющих глаз... Зачем,
ну зачем же он стал кричать, звать на помощь, этот седой сгорбленный
человечек? Ведь не грабитель пришел к нему, а несчастный, не сумевший
другим путем добыть средства, необходимые для благого дела, для спасения
многих невинных...
наверняка оправился, выжил и понял все, и простил. Непременно, непременно
так и случилось. А если даже и не так...
скорой опасности. Черный человек обернулся, замер, ощущая, как неистово
затрепыхалось в груди. Ну вот, стало быть, и дождался...
пруда, запинается о древесные стволы, протекает сквозь них туманными
струйками, оформляется вновь - ближе, все ближе... Вот уже видно лицо ее -
голубоглазое, благостное, бледногубый рот растянут в ласковой улыбке...
его омертвевших пальцев, тупо ударился о землю, и тотчас же ударились о
землю колени черного, и побелевшие губы его шевельнулись чуть слышно:
добрые старческие глаза его утонули в морщинках-лучиках. - Сыночек
почтительный пришел, могилке родителя усопшего поклониться хочет... Хочет
ведь, а?
слово, пил его неторопливыми крохотными глоточками, и лицо его морщилось в
сладостном умилении. - Сы-но-чек мой... Дай, я тебя расцелую...
По-родительски... Троекратно... Открой, открой, сыночек, лицо для ласки
отеческой...
улыбка жутко ощерилась тяжелыми ослепительными клыками, пальцы удлинились,
заострились хищно, скользнули по голове черного, сметая шапку,
запрокидывая склоненное лицо...
изумленно, почти испуганно:
где?!
скривились в жесткой ухмылке. - Помер твой Митрий, утонул. А это... Да,
это я, Андрей. Ублюдок. Сын потаскухи. Да ведь и твой - тоже! Слышишь? Я -
сын тебе, как и Митрий! И я, как и Митрий, виновен перед тобою. Вспомни,
когда я узнал, что ты - отец мой, и пришел; вспомни, что сказал ты мне
тогда! "Ты виновен передо мною и родом моим только тем уже, что родился на
свет!" Будто бы я выбирал себе мать, будто бы это я путался с кабацкими
девками, а не ты! Но пускай, пускай ты будешь прав: я виновен перед тобой,
и вина моя тяжела! И я сын тебе. Слышишь? Возьми мою жизнь, и - мир тебе,
успокойся!
ты... Ибо предначертано: "Лишь вкусив крови бесчестного сына..." Но скажи:
во имя чего? Чего хочешь ты за свою жизнь?
наскучило дожидаться ответа, он спросил о другом:
снарядил его, как следует к случаю. Авось и совладал бы со мной, попытка -
не пытка ведь, и терять тебе нечего - чья ни возьми, а все по-твоему
выйдет... Что ж ты жизнь свою сохранить не пытался, сразу горло подставил?
Не пойму я...
поднялась на родителя. Не злодей я.
смеялся, растягивая губы в сухоньком старческом хихиканьи, и во рту его
мутно взблескивала хищная клыкастая острота...
злодей"... Уморил, как есть - уморил! А кто ж ты, как не злодей? Кем мнишь
себя - благодетелем человеческим, что ли?
Злодей от другого злодея мир избавить собрался!
взгляда:
боишься ли?
зло. А меня проклинать не за что, я доброе дело творю. И не для себя -
людям.
ты глуп, не поймешь. Я лишь единое словечко шепну тебе: антиквар.
читал все тайны его души, не смутился, и не от страха задрожал голос его -
от бешенства:
крохи, что ты швырнул матери, как швыряют подачку собаке, она истратила до
последней копейки на единственную мечту свою - видеть меня прилично
образованным человеком? Да не увидела - умерла... До срока умерла, от
лишений - это ты знаешь?! Не мог я денег иным путем раздобыть, а добраться
до тебя дорого стоило! О расплате толкуешь? А то, как Митрий с тобой
поступил - не расплата ли за сотворенное со мною, с матерью моей?!
каменистая почва, взращивает лишь тернии, горечь полынную... Да не мне
тебя судить. Прощай.
в бледное запрокинутое лицо.
уходила свирепая хищная боль, терзающая лицо... Лицо? Ха-ха, как смешно,
как глупо...
ногах, чувствуя, как крепнет новорожденное упругое тело, как непривычно
близкая земля вливается в ноздри лавиной неиспытанных еще запахов -
странных, дразнящих. А где-то среди них притаился тот, главный, далекий
еще запах теплой человеческой плоти. Он манит, зовет, он повелевает
ворваться в ночную тьму стремительным и неслышным бегом, мчаться, искать,
догонять, рвать в клочья упруго податливое, сладкое, упиться болью и
ужасом попавшегося на пути - скорее, скорее, пока не поздно, пока не
спугнули ласковую темноту проклятые горластые птицы...
смертной погони, но вспухший в горле горький комок оборвал песню убийства,
и внезапная радость обожгла слезами глаза: он вспомнил. А вспомнив, понял,
что надо спешить, пока это, властно зовущее, не растворило в себе остатки
памяти.
чужих грехов. Или не только чужих?
бы рука и не дрогнула. За все. За тихие смешки, шушуканье за спиной, за
черствый хлеб по утрам, за мучительные ночи над ненавистными книгами,
когда даже спать хочется слабее, чем умереть... За продавленные венские
стулья и вонючие потеки на серых потолках присутственных мест... За
последнее прикосновение губ к осклизлому желтому лбу лежащей в гробу
матери... За все.
промахнуться, и ты бы успокоился моей кровью, но я... Дряхлая ворожея баба
Марфа сказала, что от твоего укуса я могу стать тем, чем стал теперь. В
расплату за антиквара (хотя что может значить смерть одного торгаша, когда
дело идет о множестве невинных жизней?). В расплату за ложь (хотя лгать
оборотню вряд ли значит грешить). В расплату за злобу души (хотя тот, кого
я ненавижу, других чувств не достоин). Я мог бы стать тем, чем стал
теперь, и пропала бы понапрасну не попавшая в тебя пуля, и случившееся
было бы непоправимо. Но я не пошел на риск и сохранил право самому
распорядиться своей судьбой.
зубами ствол пистолета. Хороший пистолет, вот только тяжелый, тупая боль
сводит челюсти, зубы скрипят и крошатся о холодную сталь, но шестигранный
ствол схвачен надежно и крепко - не выскользнет, не провернется рукоятью
вниз. Подходящая ветка нашлась почти сразу, и почти сразу удалось зацепить
за нее спусковой штырек. Вот и все. Теперь осталось только рвануть, и...
скорченных черных ветвях. Почему, почему?! Ведь должен был быть короткий
тяжелый гром выстрела, ослепительная вспышка и мрак, который навсегда!
Челюсти омертвели от напряжения, непосильная тяжесть разжала их и пистолет
тупо ударился о мягкую прелую землю. Как это знакомо... Он ведь уже падал
так - совсем недавно, вот здесь, на этом месте. Оно пахнет так пряно и


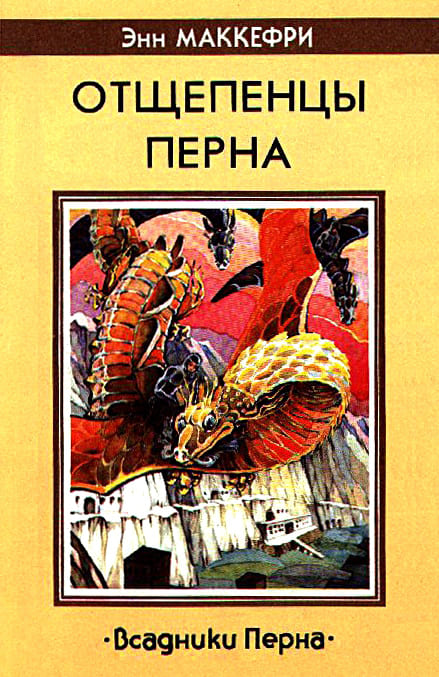



 Адамов Григорий
Адамов Григорий Орловский Гай Юлий
Орловский Гай Юлий Каргалов Вадим
Каргалов Вадим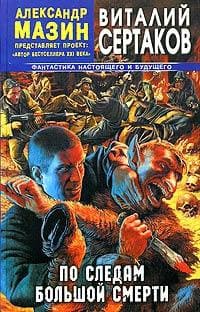 Сертаков Виталий
Сертаков Виталий Каменистый Артем
Каменистый Артем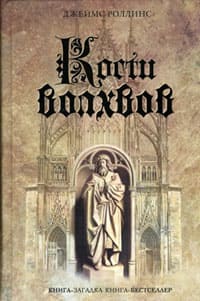 Роллинс Джеймс
Роллинс Джеймс