Сейчас тебе будет задана первая загадка. Слушай внимательно. Я не буду
говорить, как это важно - ты уже сама все знаешь.
там за спиною, из-за открывшейся двери ее дома (а за мгновенье до этого она
слышала тяжелой скрип) - надвигается то, что было под лестницей. И теперь
она знала, что это жуткое и есть Ваалад - теперь она знала, что эта жуть
была не только под лестницей ее дома - она была во всех домах, она оплетала
этот город, и от одного только осознания этого хотелось кричать, хотелось
бежать... бежать прочь... она больше не пыталась вырваться, она смотрела
прямо в непроницаемо темные глаза карлика, и боялась только того, что в этой
непроницаемой темноте ненароком отразиться то, что приближалось к ней со
спины. А карлик заговорил голосом, который подобен был ветру - леденящий,
безжалостный впивался он в сознание - рокотал о том, что ее Эльги судьба
давно уже предрешена, что нет никакого смысла сопротивляться.
то чувство, которое оно обозначало было ему больше всего ненавистно. И
теперь он глядел на Эльгу с победной усмешкой. Эльга хотела была сказать,
что - это вовсе и не загадка, но тут почувствовала, что знает ответ. Там, в
глубинах своих кошмарных сновидений слышала она это причудливое имя, и
теперь вспомнила, и теперь выдохнула его ни о чем уже не думая, но просто
чувствуя, что еще мгновенье, и то, что было за ее спиною поглотит ее.
весь потемнел и еще больше сжался от злобы, заскрежетал своими клыками. Он
отпустил руку Эльги и пятился все дальше и дальше по улице, хрипел:
должна... Проклятая ведьма!.. Ну, ничего - у Ваалада еще две загадки. Он все
заберет тебя. Слышишь ты - даже и не надейся, что тебе удастся отгадать их!
И не мечтай!..
между домами, растворился в провисшем там ледяном мареве. Еще несколько
мгновений Эльга простояла в оцепенении, а потом бросилась бежать, и бежала
столь стремительно, как никогда еще не бегала. Она из всех сил и едва
сдерживая крик, прорывалась все вперед и вперед, и все не смела оглянуться.
И бежала она до тех пор, пока не споткнулась о корень, пока не повалилась на
темную, промерзшую, местами присыпанную снегом землю. Она уже была в лесу, а
ведь даже и не заметила, как оставила позади город, не заметила и как долго
бежала - ведь ужас заполонил ее рассудок. Но теперь, судя по тому, какой
болью отдавались ноги, судя по тому, как стремительно сгущались тени,
понимала, что бежала очень-очень долго.
...Я же до ночи не успею выбраться. Ночью в лесу остаться - это же верная
смерть. А мама моя - как же она без меня, без хвороста...
Возможно, что никто из жителей города не заходил в такие дебри. Кругом
поднимались многовековые темные стволы - все изогнутые в своей нескончаемой
агонии, все источающие такую боль, что она чувствовалась в воздухе, давила,
к земле пригибала. Уныло завывал, раскачивая кроны, ветер. Еще кто-то
жалобно и жутко стенал, но эти стенания раздавались совсем издалека, и даже
непонятно было, с какой стороны.
немного домой. Скорее, скорее...
почувствовала, что уже не сможет набрать и малую вязанку, и домой не сможет
вернуться - сон, сон который она столько ночей уже отгоняла теперь, после
последних волнений, окончательно ею овладел, и не было никаких сил
сопротивляться ему. Она медленно опустилась на колени - глаза слипались, и
уже ничего не было видно. И последней мыслью было: "Михаил... Кто же он,
Михаил?.. Какое странное имя... Михаил... Михаил... Михаил..."
этот очередной запой вовсе не был обычным, каждый месяц повторяющимся
запоем. Этот особенный, давно уже им подготовленный запой продолжался уже
вторую неделю, против обычных трех дней. Он готовился к этому особому запою
так старательно, так даже самоотверженно, что свершалось бы это на пользу
человечества, так смело можно было бы вручить ему медаль. Но он только
уничтожал свой и без того надломленный организм, а вместо медали получал
нескончаемый мат, прерываемый такими же нескончаемыми "проявлениями
искренних чувств" - это от его дружков. Стоял ноябрь - промозглый, темный,
снежный, и пили они в основном у него на квартире, однако же в этот день
потянуло на природу. Было так же ветрено и снежно как и в предыдущие дни,
однако Мишка и в пьяном угаре почувствовал, что не выдержит больше грязных
стен своей клетушки, просто с ума сойдет, а потому и стал звать своих
дружков. Они не стали отказываться - они выпили в тот день уже достаточно, и
готовы были идти за своим поителем-предводителем куда угодно.
пустынная аллея; кажется - уже сумерки, хотя они уже давно потеряли
ориентацию во времени. Покачиваясь шагали три этих страшных, измятых,
изодранных, заросших щетиной создания. Мишка выделялся среди них страшной
худобой, и еще ядовито-желтыми полукружьями под глазами. Одного взгляда на
него было достаточно, чтобы вызвать в душе и отвращение, и жалость. Ведь
ясно же становилось, что не может этот человек долго прожить, что последние
дни доживает. Два его дружка ничем особенно не отличались: две окончательно
спившиеся, почти потерявшие человеческий разум субстанции. Таких можно
увидеть в подворотнях возле ларьков, да и то редко. Сейчас они жались к
Мишку и высказывали к нему отвратительную, животную чувственность -
признательность за то, что он их поет. Сейчас он был их божком, и если бы
понадобилось, они бы не задумываясь убили бы за него (а точнее за бутылку)
кого-нибудь. Один из них дышал в ухо Мишке раскаленным, гнилостным
перегаром, и выдыхал, беспрерывно чередуя свои словечки с матом, который я
здесь упускаю:
коммунизме... там все... кормят его... все друг другу подают... Пить дают!
Пить... ... ... ...!
слыша, громко кричал:
Ты прямо, как его... как его...! Ну ты прямо как...!
выкрикивали что-то совершенно бессвязное, хаотичное, довольно верно
отражающее их внутреннее состояние, и выкрикивали это с таким искренним
звериным исступлением, что даже завораживало это пение, разум пытался
отыскать в нем какой-то смысл, но никакого смысла не было - только лишь эти
звериные чувства. И Мишка тоже подхватил, он тоже заорал: "А-а мы...!" - он
захохотал, и заплакал одновременно, но он не чувствовал причин ни для смеха,
ни для плача. Боль впрочем была, но такая тупая, сдавленная, что он даже не
осознавал ее, а все продолжал и продолжал надрываясь вопить это
нескончаемое: "А-а мы...!" - и наконец закашлялся, весь перегнулся и его
начало рвать. Рвало долго - он стоял на коленях, весь выкручивался
наизнанку, ничего не видел, кроме тьмы, ничего не чувствовал, вместо боли, а
где-то высоко-высоко над его головой хаотичными, громовыми, бессвязными
словами перекрикивали безумные адские боги. Кажется, один из этих "богов",
хотел его поднять, но он грубо оттолкнул его руку, затем пополз, врезался в
ногу, и ногу эту оттолкнул, еще дальше пополз. Он хрипел:
этого то не лишайте!..
примитивнейшими чувствами, которых бы постеснялся и их далекий пещерный
предок...
также и задумываться - просто была боль, и он хотел остаться один. И вот
действительно открылся под ним овраг. Он покатился...
пропасть. Он падал в черный лес, стремительно приближались голые ветви,
искривленные стволы - он метеором прорезался через обнаженную крону, лбом
ударился о корень, и тут же холод прожег его голову...
Исполинские, страшно искривленные стволы, тяжелый, наполненный отчаяньем
воздух; ветер пронзительно, тяжело завывающий, какие-то дальние стоны -
хотелось молить к кому-то неведомому, могучему, чтобы он забрал его из этого
жуткого места. Но он чувствовал себя совершенно трезвым!
тут же жалость, чувство почти уже забытое, прорезала его сердце. Он бросился
к этому движению, и вот уже подхватил девушку, такую бледную, такую легкую,




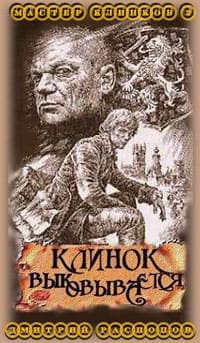

 Посняков Андрей
Посняков Андрей Посняков Андрей
Посняков Андрей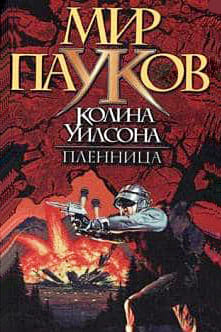 Прозоров Александр
Прозоров Александр Каргалов Вадим
Каргалов Вадим Корнев Павел
Корнев Павел Шилова Юлия
Шилова Юлия