существование представлялось безмерно более жутким, нежели этот лес.
держать это в себе, высказать - тогда, быть может, оставит. Я буду краток.
Собственно, и рассказывать не о чем - все такое незначимое... И зачем я так
жил?! Зачем?! Зачем?!.. Ну ладно, рассказываю
из хорошей семьи. Потом, уже много позже, он разглядывал свои фотографии тех
лет, и никак не мог себя узнать. Большие, наполненные ясным светом глаза;
казалось - это будущий великий человек, или поэт или изобретатель машины
времени, или архитектор, или создатель первого межгалактического корабля.
Куда исчез тот ясноокий мальчик Миша, с чего все началось? Он и не мог
вспомнить, с чего - кто-нибудь его подтолкнул, или он сам начал. Но где-то к
концу десятого класса, он вдруг обнаружил, что и пьет и курит, что поставлен
на учет в милицию за хранение наркотиков; что никакие науки его не
интересует, ничего он толком не знает, а в голове какая-то каша, какая-то
муть; и нет уж сил сосредоточиться и хочется только пить все больше и
больше. В школе - сплошные двойки. Жалкая, с настояния родителей попытка
поступить в институт - и надо же, в третий, какой-то задрапанный
институтишко поступил - кажется, родители выложили кому-то в приемной
комиссии. И вот Миша студент - ха! - не долго же он студентом пробыл.
Раздражало его учеба, на лекциях он либо спал, либо гулял - и пил все больше
и больше. Экзамены не сдал - из института вылетел, и загремел в армию. Об
армии рассказывать особенно нечего - не он один служил, не он один там гнил.
Да - завезли его в какую-то отдаленную часть, и подыхал он там сначала от
непосильных тягот "дедами" наложенных, а потом от скуки нескончаемой. На
последнем году питье сделалось его единственной радостью. Не помнил он
своего возвращения, не помнил дальнейших лет. Кажется, он где-то работал;
кажется, даже на каком-то заводишке, выполнял всякую подсобную работу;
выполнял, конечно же автоматически, так как и предназначена такая работа для
автоматов или для животных, но не для человека. Но он свыкся - однообразие
дней, месяцев, лет не раздражало его - он просто пил и пил; оглушал себя,
забывал. Жил незачем, просто двигался вперед по инерции, просто передвигал
свое тело по поверхности планеты; бредил, ругался, иногда и дрался, и все
пил, пил, пил... Так незаметно, незачем дошло до тридцати. В какой-то пьяный
посиделки дружки сказали, что надо бы ему жениться, да детей заводить, а то
и жизнь свою зазря проживет. И уже потом, в одиночестве, обхватив
раскалывающуюся с похмелья голову, он ужасался, что вот состарится и не
оставит никакого следа - и он решил жениться. Теперь он вспомнил, что
поженился также, как и работу выбрал: он когда из армии вернулся стал
обзванивать разные места, и на первом, где ему ответила, что мол да -
требуется такая неквалифицированная работа, он и остановился, и прогнил на
этой работе последующие десять лет. В женитьбе он ходил по каким-то девкам,
знакомым своих дружков - девкам непотребным, и не совсем уже молодых, и по
большей части уродливых. Кто-нибудь из дружков подталкивал его, и он брал
такую деваху под руку, уводил ее на кухню, или на балкону, и там продолжал
прежний пьяный бред, но теперь обращал уже только к ним - не чувствовал
никаких нежных чувств, сыпал матом, шатался, просто грубил, но все ж
намекал, что она его избранница, что вот хорошо бы им встречаться дальше, а
там, глядишь и свадебку сыграть. Девицы хоть и уродливые, хоть и
опустившиеся отвечали ему отказом. В них все-таки говорил инстинкт самки,
которой нужно сплести гнездо понадежней, поуютней, и они понимали, что с
таким опустившимся человеком никакого гнездышка не получится, и предпочитали
дальнейшее свое существование, быть может даже, где-то в глубине надеясь,
что и за ними придет прекрасный принц. Но вот одна, более уродливая, более
опустившаяся, более тупая, нежели остальные ответила "Да" - и он, как и за
работу, уцепился за нее, и жил и мучаясь, и смеряясь, и ненавидя, и вновь
мучаясь в течении последующих десяти лет. Он был спившимся дураком, она
просто стервозной, истеричной дурой, которая считала, что жизнь ее загублена
(а так на самом деле и было), и во всем винила своего ненавистного "гада
Мишку". Ох сколько раз они ругались, дрались, сколько грязных слов друг в
друга выплевали - это был ад, пьяный угар, метания в злобе, брань, водка,
ругань, вновь водка, непонятная работа, водка, ругань, злоба, бред, хаос,
водка, водка, водка, ругань, водка, водка, водка... И теперь каждый месяц
Мишка устраивал особые запои, когда он нажирался до состояния совершенно
скотского, и в такие дни супруга его уходила куда-то из их обшарпанной
квартирки, потому что знала, что он в злобе своей и убить ее может. А он пил
и блевал, и ругался, и вновь пил, до тех пор, пока у него не заканчивались
деньги. Но не все деньги - перед началом каждого запоя он делал нечто,
совсем с его обликом и состоянием не вяжущееся: он ходил в банк, и
откладывал некоторую, заранее им высчитанную часть денег. Никому, даже и в
скотском состоянии не обмолвился об этом счете, который медленно, но упорно,
месяц за месяцем нарастал. Так продолжалось пять лет, и наконец, получив
очередную зарплату, он решил, что пора. Собрал двоих дружков, с которыми
обычно напивался, и сообщил, что решил, мол устроить такую громадную пьянку,
что будут они пить и пить, не просыхая, и месяц и два - все пить и пить -
"...пусть сдохнем, околеем как собаки в подворотне! В блевотине захлебнемся
- все равно! Надоело все! На-до-ело!!! Все!!!.." Дружки околевать не
собирались, но идею большого запоя конечно поддержали. И началось то, что
закончилось совсем недавно в заснеженном парке.
такой перед тобой ангел!.. Хорош ангел, да?!..
захлебывался словами - старался побыстрее окончить историю своего бредового
существования. По прежнему вздымался, ярко светил пламень, но теперь
разгоряченный Михаил чувствовал жар. То, что он поведал о своей жизни вовсе
не уняло боль. Напротив - она только усилилась, и он разве что не стонал. Он
боялся поднять глаза на девушку, боялся, что сейчас вот она убежит от него,
такого мерзкого. Но она оставалась на месте, а потом вдруг положила свою
невесомую, прохладную ладошку ему на руку, и прошептала:
нас тоже нет такого слова, но я представляю - это вроде Тшиии. Тшиия, ходит
по нашим улицам - она темный вихрь, и кто попадет в него, тот уже никогда не
выйдет, будет там метаться в бреду, повсюду следовать в Тшиии. Страшная
участь... впрочем - чья участь лучше?.. Каждый умирающий уносится ледяным
ветром. Все время лететь с ледяным ветром, в этом мраке! Лучше бы я совсем
не появлялась! Зачем вся эта боль...
Михаил - раньше я тебя боялась, ты приходил ко мне в этих жутких снах. Я
думала, что ты демон смерти; но теперь все понятно - я просто видела твою
боль, этот твой "загул"... Хотя нет - многое, да почти ничего еще не
понятно. Я только одно знаю - не спроста эта наша встреча, моя судьба, твоя
судьба - все от этой встречи изменится. Только вот не говорить мы сейчас
должны, не у костра греться - надо хоть сколько то хвороста с собою взять,
да к городу, к матери моей продираться...
это имя прежде. Ладно, пойдем.
много ветвей, а из самых больших сделали два факела. И вот они уже идут,
почти бегут, подгоняемые в спины ураганным ветром. Эльга говорила:
ветер всегда несется со стороны леса...
держал в руке тревожно трепещущий факел, и плохо бы им пришлось без этих
факелов, потому что то и дело вырывались из темени раскоряченные, перегнутые
объятия уродливых деревьев; выгибались, норовящие подставить подножку корни;
изогнутые, острые ветви тянулись к глазам - и так то приходилось напрягать
все силы, находится в постоянном напряжении, чтобы успевать уварачиваться
или перепрыгивать. А потом неожиданно, деревья расступились, и Михаил понял,
что ноги больше не держат его. Он повалился, пребольно ударился, покатился,
и не удержал и хворост и факел - умирающий огонь высветил совершенно
гладкую, темную ледовую поверхность, снег на которой не задерживался, но
стремительно, с пронзительным скрежетом проносился.
Стонов. Только один раз, еще в самом раннем детстве заходила я сюда с мамой.
Хотя на лед мы и не выходили... А я и не помню, как днем через него
перебегала...
подняться Михаилом; ее похожее на тень личико оказалось прямо перед ним, и
она зашептала дрожащим, едва не срывающимся в мольбы голосом:
что... потому что в центре - в лед вмороженная душа этого озера. Я только
издали ее видела, но так это жутко. Даже и не описать той жути - стояла
тогда как окаменевшая, а мама меня под руку подхватила да прочь повела,
строго-настрого тогда наказала и близко к этому озеру не приближаться. А
представляешь, если мы во мраке этом случайно на эту жуть...
Михаила. Факел в ее руке едва горел - налетал на него снег, и раздавалось
шипение; огонек, постепенно затухая, жалобно метался - вот-вот мрак должен






 Никитин Юрий
Никитин Юрий Шилова Юлия
Шилова Юлия Посняков Андрей
Посняков Андрей Никитин Юрий
Никитин Юрий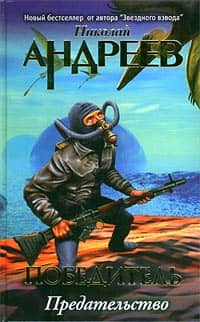 Андреев Николай
Андреев Николай