вспомнилась книга в желтом переплете с надписью Сахалин. Там были
фотографии разных мужчин.
Убийство, взлом, окровавленный топор, - подумал я, - десять лет... Какая
все-таки оригинальная жизнь у меня на необитаемом острове. Нужно идти
добриться...
Я, вдыхая апрельский дух, приносимый с черных полей, слушал вороний
грохот с верхушек берез, щурился от первого солнца, шел через двор
добриваться. Это было около трех часов дня. А добрился я в девять вечера.
Никогда, сколько я заметил, такие неожиданности в Мурьеве, вроде родов в
кустах, не приходят в одиночку. Лишь только я взялся за скобку двери на
своем крыльце, как лошадиная морда показалась в воротах, телегу,
облепленную грязью, сильно тряхнуло. Правила баба и тонким голосом кричала:
- Н-но, лешай!
И с крыльца я услышал, как в ворохе тряпья хныкал мальчишка.
Конечно, у него оказалась переломленная нога, и вот два часа мы с
фельдшером возились, накладывая гипсовую повязку на мальчишку, который выл
подряд два часа. Потом обедать нужно было, потом лень было бриться,
хотелось что-нибудь почитать, а там приползли сумерки, затянуло дали, и я,
скорбно морщась, добрился. Но так как зубчатый Жиллет пролежал позабытым в
мыльной воде - на нем навеки осталась ржавенькая полосочка, как память о
весенних родах у моста.
Да... бриться два раза в неделю было ни к чему. Порою нас заносило вовсе
снегом, выла несусветная метель, мы по два дня сидели в Мурьевской
больнице, не посылали даже в Вознесенск за девять верст за газетами, и
долгими вечерами я мерил и мерил свой кабинет и жадно хотел газет, так
жадно, как в детстве жаждал куперовского Следопыта. Но все же английские
замашки не потухли вовсе на мурьевском необитаемом острове, и время от
времени я вынимал из черного футлярчика блестящую игрушку и вяло брился,
выходил гладкий и чистый, как гордый островитянин. Жаль лишь, что некому
было полюбоваться на меня.
Позвольте... да... ведь был и еще случай, когда, помнится, вынул бритву и
только что Аксинья принесла в кабинет выщербленную кружку с кипятком, как в
дверь грозно застучали и вызвали меня. И мы с Пелагеей Ивановной уехали в
страшную даль, закутанные в бараньи тулупы, пронеслись, как черный призрак,
состоящий из коней, кучера и нас, сквозь взбесившийся белый океан. Вьюга
свистела, как ведьма, выла, плевалась, хохотала, все к черту исчезло, и я
испытывал знакомое похолодание где-то в области солнечного сплетения при
мысли, что собьемся мы с пути в этой сатанинской вертящейся мгле и пропадем
за ночь все: и Пелагея Ивановна, и кучер, и лошади, и я. Еще, помню,
возникла у меня дурацкая мысль о том, что когда мы будем замерзать и вот
нас наполовину занесет снегом, я и акушерке, и себе, и кучеру впрысну
морфий... Зачем?.. А так, чтобы не мучиться Замерзнешь ты, лекарь, и без
морфия превосходнейшим образом, - помнится, отвечал мне сухой и здоровый
голос, - ништо тебе... У-гу-гу!.. Ха-ссс!.. - свистала ведьма, и нас
мотало, мотало в санях... Ну, напечатают там в столичной газете на задней
странице, что вот, мол, так и так, погибли при исполнении служебных
обязанностей лекарь такой-то, а равно Пелагея Ивановна с кучером и парою
коней. Мир праху их в снежном море. Тьфу... что в голову лезет, когда тебя
так называемый долг службы несет и несет...
Мы не погибли, не заблудились, а приехали в село Грищево, где я стал
производить второй поворот на ножку в моей жизни. Родильница была жена
деревенского учителя, и пока мы по локоть в крови и по глаза в поту при
свете лампы бились с Пелагеей Ивановной над поворотом, слышно было, как за
дощатой дверью стонал и мотался по черной половине избы муж. Под стоны
родильницы и под его неумолчные всхлипывания я ручку младенцу, по секрету
скажу, сломал. Младенчика получили мы мертвого. Ах, как у меня тек пот по
спине! Мгновенно мне пришло в голову, что явится кто-то грозный, черный и
огромный, ворвется в избу, скажет каменным голосом: Ага. Взять у него
диплом!
Я, угасая, глядел на желтое мертвое тельце и восковую мать, лежавшую
недвижно, в забытьи от хлороформа. В форточку била струя метели, мы открыли
ее на минуту, чтобы разредить удушающий запах хлороформа, и струя эта
превращалась в клуб пара. Потом я захлопнул форточку и снова вперил взор в
мотающуюся беспомощно ручку в руках акушерки. Ах, не могу я выразить того
отчаяния, в котором я возвращался домой один, потому что Пелагею Ивановну я
оставил ухаживать за матерью. Меня швыряло в санях в поредевшей метели,
мрачные леса смотрели укоризненно, безнадежно, отчаянно. Я чувствовал себя
побежденным, разбитым, задавленным жестокой судьбой. Она меня бросила в эту
глушь и заставила бороться одного, без всякой поддержки и указаний. Какие
неимоверные трудности мне приходится переживать. Ко мне могут привести
какой угодно каверзный или сложный случай, чаще всего хирургический, и я
должен стать к нему лицом, своим небритым лицом, и победить его. А если не
победишь, вот и мучайся, как сейчас, когда валяет тебя по ухабам, а сзади
остался трупик младенца и мамаша. Завтра, лишь утихнет метель, Пелагея
Ивановна привезет ее ко мне в больницу, и очень большой вопрос - удастся ли
мне отстоять ее? Да и как мне отстоять ее? Как понимать это величественное
слово? В сущности, действую я наобум, ничего не знаю. Ну, до сих пор везло,
сходили с рук благополучно изумительные вещи, а сегодня не свезло. Ах, в
сердце щемит от одиночества, от холода, оттого, что никого нет кругом. А
может, я еще и преступление совершил - ручку-то. Поехать куда-нибудь,
повалиться кому-нибудь в ноги, сказать, что вот, мол, так и так, я, лекарь
такой-то, ручку младенцу переломил. Берите у меня диплом, недостоин я его,
дорогие коллеги, посылайте меня на Сахалин. Фу, неврастения!
Я завился на дно саней, съежился, чтобы холод не жрал меня так страшно, и
самому себе казался жалкой собачонкой, псом, бездомным и неумелым.
Долго, долго ехали мы, пока не сверкнул маленький, но такой радостный,
вечно родной фонарь у ворот больницы. Он мигал, таял, вспыхивал и опять
пропадал и манил к себе. И при взгляде на него несколько полегчало в
одинокой душе, и когда фонарь уже прочно утвердился перед моими глазами,
когда он рос и приближался, когда стены больницы превратились из черных в
беловатые, я, въезжая в ворота, уже говорил самому себе так:
Вздор - ручка. Никакого значения не имеет. Ты сломал ее уже мертвому
младенцу. Не о ручке нужно думать, а о том, что мать жива.
Фонарь меня подбодрил, знакомое крыльцо тоже, но все же уже внутри дома,
поднимаясь к себе в кабинет, ощущая тепло от печки, предвкушая сон,
избавитель от всех мучений, бормотал так:
Так-то оно так, но все-таки страшно и одиноко. Очень одиноко
Бритва лежала на столе, а рядом стояла кружка с простывшим кипятком. Я с
презрением швырнул бритву в ящик. Очень, очень мне нужно бриться...
И вот целый год. Пока он тянулся, он казался многоликим, многообразным,
сложным и страшным, хотя теперь я понимаю, что он пролетел, как ураган. Но
вот в зеркале я смотрю и вижу след, оставленный им на лице. Глаза стали
строже и беспокойнее, а рот увереннее и мужественнее, складка на переносице
останется на всю жизнь, как останутся мои воспоминания. Я в зеркале их
вижу, они бегут буйной чередой. Позвольте, когда еще я трясся при мысли о
своем дипломе, о том, что какой-то фантастический суд будет меня судить и
грозные судьи будут спрашивать:
А где солдатская челюсть? Отвечай, злодей, окончивший университет!
Как не помнить! Дело было в том, что хотя на свете и существует фельдшер
Демьян Лукич, который рвет зубы так же ловко, как плотник - ржавые гвозди
из старых шалевок, но такт и чувство собственного достоинства подсказали
мне на первых же шагах моих в Мурьевской больнице, что зубы нужно выучиться
рвать и самому. Демьян Лукич может и отлучиться или заболеть, а акушерки у
нас все могут, кроме одного: зубов они, извините, не рвут, не их дело.
Стало быть... Я помню прекрасно румяную, но исстрадавшуюся физиономию
передо мной на табурете. Это был солдат, вернувшийся в числе прочих с
развалившегося фронта после революции. Отлично помню и здоровеннейший,
прочно засевший в челюсти крепкий зуб с дуплом. Щурясь с мудрым выражением
и озабоченно покрякивая, я наложил щипцы на зуб, причем, однако, мне
отчетливо вспомнился всем известный рассказ Чехова о том, как дьячку рвали
зуб. И тут мне впервые показалось, что рассказ этот нисколько не смешон.
Во рту громко хрустнуло, и солдат коротко взвыл: - Ого-о!
После этого под рукой сопротивление прекратилось, и щипцы выскочили изо рта
с зажатым окровавленным и белым предметом в них. Тут у меня екнуло сердце,
потому что предмет это превосходил по объему всякий зуб, хотя бы даже и
солдатский коренной. Вначале я ничего не понял, но потом чуть не зарыдал: в
щипцах, правда, торчал и зуб с длиннейшими корнями, но на зубе висел
огромный кусок ярко-белой неровной кости.
Я сломал ему челюсть - подумал я, и ноги мои подкосились. Благословляя
судьбу за то, что ни фельдшера, ни акушерок нет возле меня, я воровским
движением завернул плод моей лихой работы в марлю и спрятал в карман.
Солдат качался на табурете, вцепившись одной рукой в ножку акушерского
кресла, а другою - в ножку табурета, и выпученными, совершенно ошалевшими
глазами смотрел на меня. Я растерянно ткнул ему стакан с раствором
марганцевокислого калия и велел:
- Полощи.
Это был глупый поступок. Он набрал в рот раствор, а когда выпустил его в
чашку, тот вытек, смешавшись с алою солдатской кровью, по дороге
превращаясь в густую жидкость невиданного цвета. Затем кровь хлынула изо
рта солдата так, что я замер. Если бы я полоснул беднягу бритвой по горлу,
вряд ли она текла бы сильнее. Отставив стакан с калием, я набрасывался на
солдата с комками марли и забивал зияющую в челюсти дыру. Марля мгновенно
становилась алой, и, вынимая ее, я с ужасом видел, что в дыру эту можно
свободно поместить больших размеров сливу ренглот.
Отделал я солдата на славу, - отчаянно думал я и таскал длинные полосы
марли из банки. Наконец кровь утихла, и я вымазал яму в челюсти йодом.
- Часа три не ешь ничего, - дрожащим голосом сказал я своему пациенту.
- Покорнейше вас благодарю, - отозвался солдат, с некоторым изумлением
глядя в чашку, полную его крови.



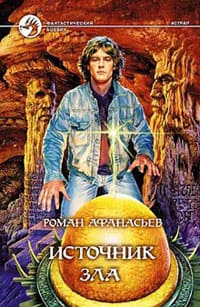


 Каменистый Артем
Каменистый Артем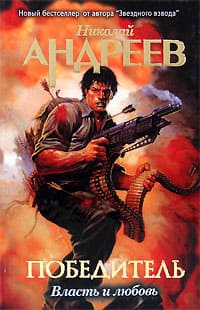 Андреев Николай
Андреев Николай Земляной Андрей
Земляной Андрей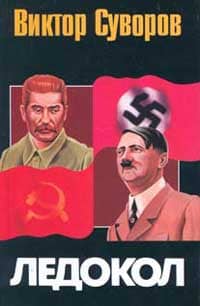 Суворов Виктор
Суворов Виктор Шилова Юлия
Шилова Юлия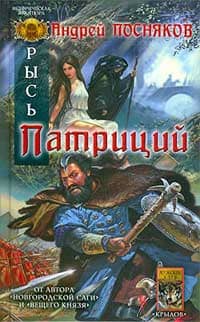 Посняков Андрей
Посняков Андрей