терапевтическое отделение к Павлу Владимировичу.
О, величественная машина большой больницы на налаженном, точно смазанном ходу!
Как новый винт по заранее взятой мерке, и я вошел в аппарат и принял детское
отделение. И дифтерит, и скарлатина поглотили меня, взяли мои дни. Но только
дни. Я стал спать по ночам, потому что не слышалось более под моими окнами
зловещего ночного стука, который мог поднять меня и увлечь в тьму на опасность
и неизбежность. По вечерам я стал читать (про дифтерит и скарлатину, конечно, в
первую голову и затем почему-то со странным интересом Фенимора Купера) и оценил
вполне и лампу над столом, и седые угольки на подносе самоваре, и стынущий чай,
и сон после бессонных полутора лет...
Так я был счастлив в 17 году зимой, получив перевод в уездный город с глухого
вьюжного участка.
сс
Пролетел месяц, за ним второй и третий, 17-й год отошел, и полетел февраль
18-го. Я привык к своему новому положению и мало-помалу свой дальний участок
стал забывать. В памяти стерлась зеленая лампа с шипящим керосином,
одиночество, сугробы... Неблагодарный! Я забыл свой боевой пост, где я один без
всякой поддержки боролся с болезнями, своими силами, подобно герою Фенимора
Купера выбираясь из самых диковинных положений.
Изредка, правда, когда я ложился в постель с приятной мыслью о том, как сейчас
я усну, какие-то обрывки проносились в темнеющем уже сознании. Зеленый огонек,
мигающий фонарь... скрип саней... короткий стон, потом тьма, глухой вой метели
в полях... потом все это боком кувыркалось и проваливалось...
"Интересно, кто там сидит сейчас на моем месте?.. Кто-нибудь да сидит...
Молодой врач вроде меня... ну, что же, я свое высидел. Февраль, март, апрель...
ну, и, скажем, май - и конец моему стажу. Значит, в конце мая я расстанусь с
моим блистательным городом и вернусь в Москву. И ежели революция подхватит меня
на свое крыло - придется, возможно, еще поездить... но во всяком случае своего
участка я более никогда в жизни не увижу... Никогда... Столица... Клиника...
Асфальт, огни..."
Так думал я.
"...А все-таки хорошо, что я пробыл на участке... Я стал отважным человеком...
Я не боюсь... Чего я только не лечил?! В самом деле? А?.. Психических болезней
не лечил... Ведь... Верно, нет, позвольте... А агроном допился тогда до
чертей... И я его лечил и довольно неудачно... Белая горячка... Чем не
психическая болезнь? Почитать надо бы психиатрию... да ну ее. Когда-нибудь
впоследствии в Москве... А сейчас, в первую очередь, детские болезни... и еще
детские болезни... и в особенности эта каторжная детская рецептура... Фу,
черт... Если ребенку 10 лет, то, скажем, сколько пирамидону ему можно дать на
прием? 0,1 или 0,15?.. Забыл. А если три года?.. Только детские болезни... и
ничего больше... довольно умопомрачительных случайностей! Прощай, мой
участок!.. И почему мне этот участок так настойчиво сегодня вечером лезет в
голову?.. Зеленый огонь... Ведь я покончил с ним расчеты на всю жизнь... Ну и
довольно... Спать"
- Вот письмо. С оказией привезли...
- Давайте сюда.
Сиделка стояла у меня в передней. Пальто с облезшим воротником было накинуто
поверх белого халата с клеймом. На синем дешевом конверте таял снег.
- Вы сегодня дежурите в приемном покое? - спросил я, зевая.
- Никого нет?
- Нет, пусто.
- Ешли... (зевота раздирала мне рот и от этого слова я произносил неряшливо), -
кого-нибудь привежут... вы дайте мне знать шюда... я лягу спать...
- Хорошо. Можно иттить?
- Да, да. Идите.
Она ушла. Дверь визгнула, а я зашлепал туфлями в спальню, по дороге безобразно
и криво раздирея пальцами конверт.
В нем оказался продолговатый смятый бланк с синим штемпелем моего участка, моей
больницы... Незабываемый бланк...
Я усмехнулся.
"Вот интересно... весь вечер думал об участке, и вот он явился сам напомнить о
себе... предчувствие"
Под штемпелем химическим карандашом был начертан рецепт. Латинские слова,
неразборчивые, перечеркнутые...
- Ничего не понимаю... путаный рецепт... - пробормотал я и уставился на слово
"морпчини...". Что, бишь, тут необычайного в этом рецепте?... Ах, да...
четырехпроцентный раствор! Кто же выписывает четырехпроцентный раствор
морфия?... Зачем?!
Я перевернул листок, и зевота моя прошла. На обороте листка чернилами, вялым и
разгонистым почерком было написано:
"11 февраля 1918 года.
Милый цоллега!
Извините, что пишу на клочке. Нет под руками бумаги. Я очень тяжко и нехорошо
заболел. Помочь мне некому, да я и не хочу искать помощи ни у кого, кроме Вас.
Второй месяц я сижу в бывшем Вашем участке, знаю, что Вы в городе и
сравнительно недалеко от меня.
Во имя нашей дружбы и университетских лет прошу Вас приехать ко мне поскорее.
Хоть на день. Хоть на час. И если Вы скажете, что я безнадежен, я вам поверю...
А может быть, можно спастись?.. Да, может быть, еще можно спастись?.. Надежда
блеснет для меня? Никому, прошу Вас, не сообщайте о содержании этого письма".
- Марья! Сходите сейчас же в приемный покой и вызовите ко мне дежурную
сиделку... Как ее зовут?.. Ну, забыл... Одним словом, дежурную, которая мне
письмо принесла сейчас. Поскорее!
- Счас.
Через несколько минут сиделка стояла передо мной и снег таял на облезшей кошке,
послувшей материалом для Вофотника.






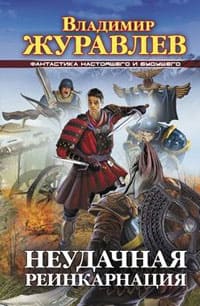 Журавлев Владимир
Журавлев Владимир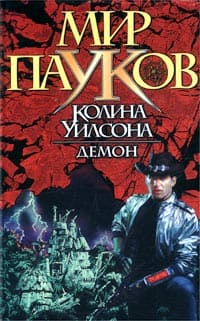 Прозоров Александр
Прозоров Александр Орловский Гай Юлий
Орловский Гай Юлий Березин Федор
Березин Федор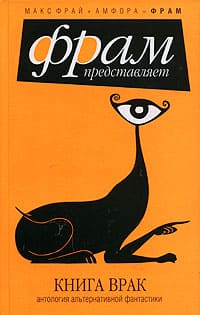 Афанасьев Роман
Афанасьев Роман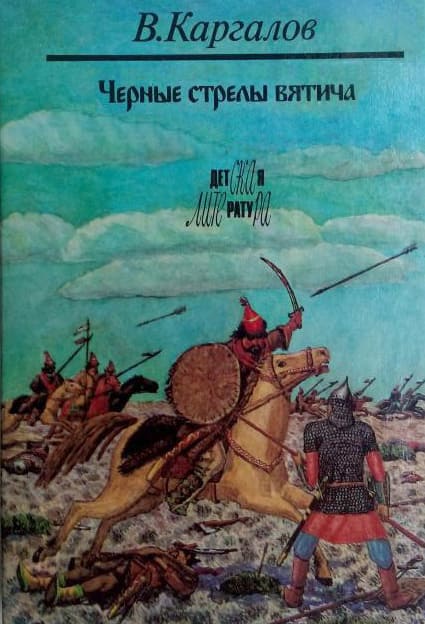 Каргалов Вадим
Каргалов Вадим