по полену.
- Воля ваша, это - анекдот, - сказал я, - не может быть!
- Анек-дот?! Анекдот? - вперебой воскликнули акушерки.
- Нет-с! - ожесточенно воскликнул фельдшер. - У нас, знаете ли, вся жизнь из
подобных анекдотов состоит...У нас тут такие вещи...
- А сахар?! - воскликнула Анна Николаевна - Расскажите про сахар, Пелагея
Ивановна!
Пелагея Ивановна прикрыла заслонку и заговорила, потупившись:
- Приезжаю я в то же Дульцево к роженице...
- Это Дульцево - знаменитое место, - не удержался фельдшер и добавил: -
Виноват! продолжайте, коллега!
- Ну, понятное дело, исследую, - продолжала коллега Пелагея Ивановна, -
чувствую под пишьцами в родовом канале что-то непонятное... то рассыпчатое, то
кусочки... Оказывается - сахар-рафннад!
- Вот и анекдот! - торжественно заметил Демьян Лукич.
- Поз-вольте... ничего не понимаю...
- Бабка! - отозвалась Пелагея Ивановна - Знахарка научила. Роды, говорит, у ей
трудные. Младенчик не хочет выходить на божий свет. Стало быть, нужно его
выманить. Вот они, значит, его на сладкое и выманиви!
- Ужас! - сказал я.
- Волосы дают жевать роженицам, - сказшиа Анна Николаевна.
- Зачем?!
- йут их знает. Раза три привозили нам рожениц. Лежит и плюется бедная женщина.
Весь рот полон щетины. Примета есть такая, будто роды легче пойдут...
огня сидели за чаем, и я слушал как зачарованный. О том, что,
когда приходится вести роженицу из деревни к нам в больницу,
Пелагея нванна свои сани всегда сзади пускает: не передумали бы
по дороге, не вернули бы бабу в руки бабкн. О том, как однажды
роженицу при неправильном положении, чтобы младенчик
повернулся, кверху ногами к потолку подвешивали. О том, как
бабка из Коробова, наслышавщись, что врачи делают прокол
плодного пузыря, столовым ножом изрезала всю голову младенцу,
так что даже такой знаменитый и ловкий человек, как Липонтий,
не мог его спасти, и хорошо, что хоть мать спас. О том...
видел, как некоторое время тускловато светилось оконце у Анны
Николаевны, потом погасло. Все скрылось. К метели примешался
густейший декабрьский вечер, и черная завеса скрыла от меня и
небо и землю.
ногами, и было тепло от голландки-печки, и слышно было, как
грызла где-то деловит мышь.
тьмой ровно столько, сколько судьба продержит меня здесь в
глуши. Сахар-рафинад... Скажите пожалуйста!.."
колпаком, возник громадный университетский город, а в нем
клиника, а в клинике - громадный зал, изразцовый пол, блестящие
краны, белые стерильные простыни, ассистент с остроконечной,
очень мудрой, седеющей бородкой...
вздрогнул.. .
внутренней лестницы (квартира у врача была в двух этажах:
вверху кабинет и спальни, внизу - столовая, еще одна комната -
неизвестного назначения и кухня, в которой и помещалась эта
Аксинья - кухарка - и муж ее, бессменный сторож больницы).
внизу, повеяло холодом. Потом Аксинья доложила:
хотелось, а от мышиной грызни и воспоминаний стшио немного
тоскливо, одиноко. Притом больной, значит, не женщина, значит,
не самое страшное - не роды.
- Ходит он?
- Ходит, - зевая, ответила Аксинья.
- Ну, пусть идет в кабинет.
большого веса человек. Я в это время уже сидел за письменним
столом, стараясь, чтобы двадцатичетырехлетняя моя живость не
выскакивала по возможности из профессиональной оболочки
эскулапа. Правая моя рука лежа на стетоскопе, как на
револьвере.
находась в руках у фигуры.
для очистки совести.
отозвалась фигура, - метель - чистое горе! Ну, задержись, что
поделаешь, уж простите, пожалуйста!..
мне очень понравилась, и даже рыжая густая борода произвела
хорошее впечатление. Видимо, борода эта пользовалась некоторым
уходом. Владелец ее не только подстриг, но даже и смазывал
каким-то веществом, в котором врачу, побывшему в деревне хотя
бы короткий срок, нетрудно угадать постное масло.
как двенадцать часов, голова начинает болеть, потом жар как
пойдет... Часа два потреплет и отет болеть, потом жар как
пойдет... Часа два потреплет и отпустит...
"Готов диагноз!" - победно звякнуло у меня в голове.
- А в остальные часы ничего?
- Ноги слабые...
- Ага... Расстегнитесь! Гм... так.
К концу осмотра больной меня очаровал. После бестолковых старушек, испуганных
подростков, с ужасом шарахающихся от металлического шпаделя, после этой
утренней штуки с белладонной на мельнике отдыхал мой университетский глаз.
Речь мелыиика была толкова. Кроме того, он оказался грамотным, и даже всякий
жест его был пропитан уважением к науке, которую я считаю своей любимой, к


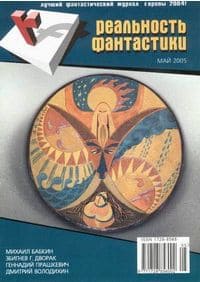
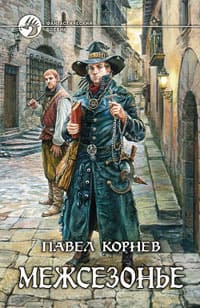
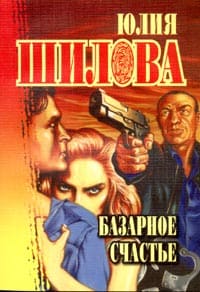

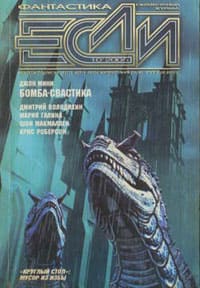 Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий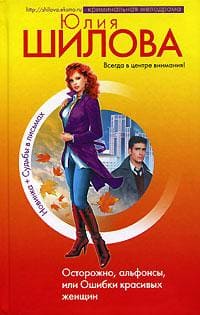 Шилова Юлия
Шилова Юлия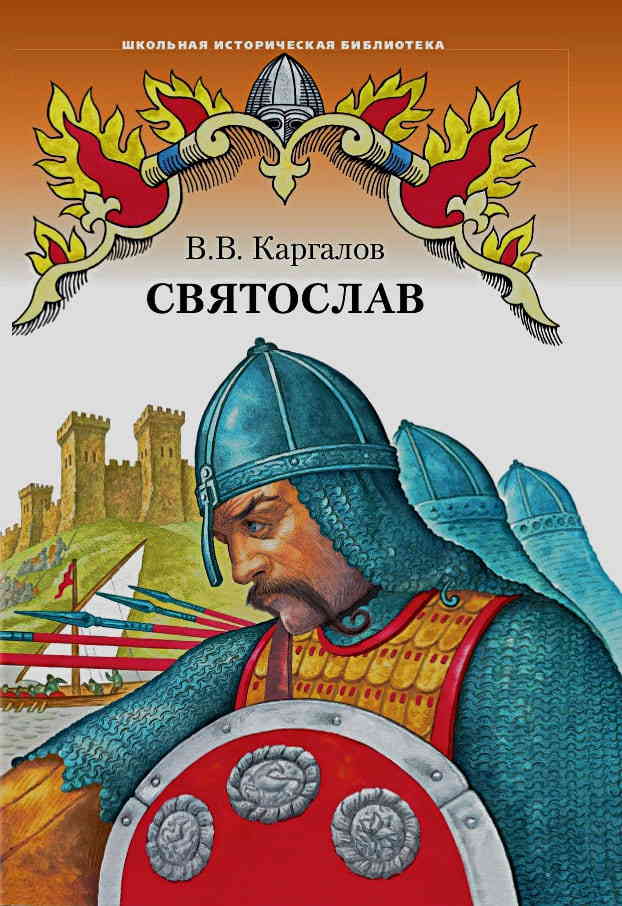 Каргалов Вадим
Каргалов Вадим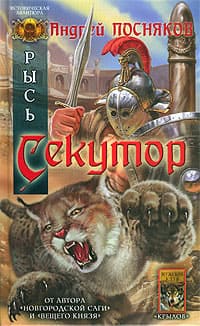 Посняков Андрей
Посняков Андрей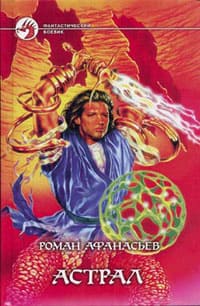 Афанасьев Роман
Афанасьев Роман Шилова Юлия
Шилова Юлия