товарищеский поступок! Ковшук криво ухмыльнулся: -- Тебе ж моя благодарность
не на словах нужна! Что тебе надо за "товарищеский поступок"? Я глубоко
вдохнул, как перед прыжком во сне, и равнодушно сообщил: -- Человек тут один
-- совсем лишний... -- ... Совсем? -- Совсем. Ковшук молчал. Не так, как
молчат в раздумье над поставленной задачей, а отстраненно, далеко он был,
будто вспоминал что-то стародавнее. -- Если я умру... -- заговорил Семен
неспешно, и, судя по этой обстоятельности, он не сомневался в существовании
альтер- нативы. Но почему-то смолчал, весь утонул в своем тягостном
воспоминании. -- Что будет, если ты умрешь? -- поинтересовался я. Но он
махнул рукой: -- Ничего, не важно. Ты мне только скажи, Павел, зачем тебе
все это? -- Трудно объяснить, Сема. Но если коротко, я хочу победить в
жизни. Семен помотал своим черным адмиральским фургоном: -- В жизни нельзя
победить, Пашенька, жизнь -- игра на проигрыш... Может, и не надо было
уезжать из Паранайска... -- И, вздохнув, неожиданно отказался от
альтернативы: -- Все одно всякая жизнь кончается смертью! -- Сеня, смерть --
это не проигрыш. Смерть -- это окончание игры. -- Одно и то же, -- сказал он
устало и подвинул ко мне по столу листы с объяснением Тэддера. -- Возьми их.
Паша, не нужны они мне... Ах, какая тишина, какое молчание, какая тягота
немоты разделяла нас! Слабо гудела люминесцентная лампа, шоркал дождь по
стеклу, какая-то пьяненькая девка заорала на улице пронзительно-весело:
"Никакого кайфа от собачьего лайфа!.. " Я достал зажигалку, поднял над
столом листы и чиркнул "ронсоном" под левым нижним уголком, где фиолетовыми
чернилами, радужно зазеленевшими от времени, была выведена трясущейся рукой
вялая подпись "Б. Ф. Тэддер. 28 октября 1948 года". Желто-синее пламя
ласково облизало лист, скрутило его в черный вьющийся свиток, побежало
вверх, почти стегануло мне жаром пальцы, и тогда я уронил этот живой,
бьющийся кусок огня в большую железную пепельницу. Пыхнул пару раз бумажный
костерок, пролетел но комнате серым дымом, и я пальцем расшерудил слабый
потрескивающий пепел На кусочке пепла ясно проступило серебряное слово
"Грубер", и я растер его. Все исчезло. Память о Грубере была кремирована.
Теперь навсегда. Так что, Сеня, значит -- нет? Почему -- нет? Да. Я его
уберу. Ну и хорошо. А почему ты сам не управишся? Не хуже моего умеешь. Мне
нельзя. Я около него засвечен. -- Ладно, сделаю. Кто? -- Я тебе его завтра
покажу. Хорошо, -- кивнул Ковшук и взял со стола свой грязный кухонный нож,
посвечивавший бритвенным лезвием. -- Подойдет? -- Вполне. Мы помолчали. И
мне показалось, что Ковшук облегченно вздохнул: -- Это хорошо, что ты
пришел. Мне как-то неудобно было -- я у тебя в долгу жил. Да брось ты. Какие
у нас счеты? -- Не скажи! Долги надо отдавать. Господи, какое счастье, что
мы все-таки очень мало знаем друг про друга! Как усложнило бы нишу жизнь
ненужное знание! Если бы Семен знал все, он, может быть, не стал бы ждать
нас завтра с Магнустом, а полоснул меня своим ножом прямо сейчас.. -- Ну
что, Павел, до завтра? -- В смысле -- до сегодня. Я часа в три приду. --
Тогда бывай здоров. -- Пока. У дверей гостиницы веселилась, шутковала с
кардиналом Степой проститутка Надя. Увидела меня и крикнула: -- Вон он, мой
бобер распрекрасный, идет! -- А где ж твои фраера? -- спросил я. -- Да ну их
в задницу! Чучмеки, дикий народ. Я им "динаму" крутанула и вернулась.
Поехали ко мне? -- Поехали. На червонец, иди возьми у Гаврилыча бутылку. Она
побежала к моему славному адмиралу, уже поднявшему на мачте невидимого
"веселого Роджера". А я вышел на дождь и подумал, что впервые мне удалось
перехитрить Истопника, оторваться от него. Наверное, потому, что я нырнул в
старую жизнь. Туда ему не было ходу. Выскочила вслед за мной Надька, дернула
за рукав: -- Вон "левак" катит, голосуй быстрей! Я сошел на мостовую и
замахал изо всех сил медленно плывущей по лужам черной "Волге". Плавно
подтормаживая, она уже почти совсем остановилась около нас, я наклонился к
окну водителя, он приспустил стекло и вдруг визгливо захохотал. -- Дядя, ты
чего, озверел? -- спросила его Надька. А я оцепенело смотрел в эту медленно
уплывающую, истерически смеющуюся рожу- блеклую, вытянутую, со змеящимся
севрюжьим носом и невытертым мазком харкотины на щеке... Взревел мотор,
шваркнули баллоны, и машина умчалась. -- Мудозвон чокнутый" -- крикнула
сердито вслед Надька, отряхнулась от брызг и спросила: -- Он тебя что --
знает?..
ГЛАВА 9. ЛОПНУВШИЙ ГОЛОВАСТИК
Если хочет. Все равно в моем любимом городе -- Москве-красавице, столице
мира, сердце всей России -- ночью больше делать нечего. Мы ночную жизнь не
любим. Нам весь этот грохот джаза, половодье рекламного света, все эти
кошмарные ужимки Города Желтого Дьявола ни к чему. Нам эти грязные
развлечения неоновых джунглей -- бим-бом! У нас ложатся спать рано, нам все
эти животные "ха-ха-ха" -- до керосиновой лампочки. В ночь бросаются
нетерпеливо и безоглядно, как в нефтяную реку, чтобы утонуть до утра, когда
вас ждет мучительная радость ранней опохмелки и счастливое горение
встречного плана. Нет, мы гулять не любим! Мы любим работать. А может быть,
не любим. Все равно больше делать нечего. Выходит, я один люблю гулять но
ночам. А может, не один. Все равно ни у кого не узнаешь -- все спят. В
ночных гуляющих людях -- тревога неустроенность и беспокойство. Только в
спящихпокой и благодать: как бы в усопших. Мрак, холод, летяшая с ветром
вода, густая липкая грязь под колесами. Муравейник тонущий в ночном
наводнении. Черные трущебы бетонных коробов, выморочная пустота слякотных
дорог, тусклое полыхание фонарей. Кто придумал эти страшные лампы,
истекающие йодным паром и свежей дымящейся желчью? Все спят. Только мы с
Надькой не спим. Гулеваним. На тротуаре стоим под дождем, глядим на
санитарный автобус с милой надписью на сером борту: "Инфекционная служба --
спецперевозка" Интересно, кого он до нас спецперевозил? Туберкулезни- ков"?
Сифилитиков? Чумных? Прокаженных? Нам это без разницы. Мы заразы не боимся.
Сами кого хошь наградим. Нет, "Инфекционная спецперевозка" -- хорошая
машина, ничего не скажу. Мы уж совсем было устроились с Надькой трахаться на
носилках, да тряска меня сморила, угар бензиновый голову закружил, пока
девушка у меня в ширинке своими быстрыми холодными перстами шныряла.
Придремал я маленечко. Отключился на долгий миг моей спецперевозки из мглы
во тьму -- через черный пустой город. А потом Надька меня растолкала:
"Выходи, выходи, а то брошу тебя -- в карантин увезут!.. " Вывалились на
улицу, под хлесткий пронзительный дождь, темнота с йодным подсветом, испуг и
нутряная дрожь спросонья. Выхватила Надька из сумки бутыль, собачьими
острыми зубами сорвала с горлышка "бескозырку", мне в руки ткнула: на,
прихлебни, враз очухаешься! Она знает, она меня понимает. И действительно,
полегчало. Стояли мы обнявшись, чтобы чуть теплее было. Она крепко держала
меня за голову и взасос, заглотом целовала, будто всего меня в рот вобрать
собиралась, и язычком своим проворным, тверденьким ласкала, оглаживала,
засасывала. А мне было утомительно, дрожко, и под ложечкой -- огромная
пустота, словно проглотил я целиком надутый детский воздушный шарик. Хороша
парочка -- баран да ярочка. Замученный людобой и влюбленная блядюга. Губами
я чувствовал холод ее металлических коронок, с нежностью обонял свежий
перегар водки. Отодвинул ее от себя, внимательно рассмотрел. У нее были
шальные глаза -- веселые и бессмысленные. Очень широко расставленные. Вот
так, в упор -- казалось, они у нее на ушах висят. -- Красавица моя. Надежда,
прекрасный эльф, поехали со мной в город Топник! На хрен он мне сдался! --
захохотала Надька. -- Мне и тут не кисло! -- Это ты права, Надька: Москва
действительно лучший город мира, самый светлый и беззаботный! Я хотел бы
жить и умереть в Париже, когда бы не было такой земли -- Москва!.. Не звезди
на радость! -- прошелестела Надька. -- Все вы, начальники, врать горазды.
"Лучший! ", "Светлый! ". Тебя из персоналки высадить где-нибудь в Бибиреве
или на Дангауэровке -- в жисть домой не попадешь... -- Надька, подруга
синеокая, голубка сизокрылая! Какой же я начальник? Я поэт разлуки и печали,
я здешний ворон. Я замученный опричник... У меня нет персоналки, у меня
собственный скромный автомобиль марки "мерседес", модели 220, номерной знак
МКТ 77-77... -- Во дает! -- радостно ахнула Надька. -- Во врет-то! Ну,
золотой, сразу я тебя высмотрела -- у тебя на роже толстыми буквами два
слова выведены! -- Тихарь и фраер, да? -- Нет, мой сливочный, -- вздохнула
Надька, глазами-на-ушах тряхнула -- Написано там по-другому: нахал и
звездила! Вот так, МОИ сладенький. Я засмеялся, спросил на всякий случай. А
у тебя чего написано? У меня? удивилась она. -- Ты нешто неграмотный? Гляди.
"Надя Вертипорох -- как росинки шорох, как ириска девочка, валдайская
целочка"! -- Это ты -- Вертипорох? -- Ну не ты же! А что, мой шоколадовый,
так и будем здесь с тобой на дожде дрочить? Или, может, в дом взойдем? --
Веди меня, Вертипорох, крути меня круче, пропади все пропадом... В подъезде
девятиэтажной грязной хибары пронзительно воняло мочой -- теплой аммиачной
атмосферой Венеры. Пыльные клубы мочевины и метана перекатывались по
загаженным лестницам, мутные лампочки воздымались кривым хороводом планет на
своем беспросветном венерическом небосклоне. Мы с Надькой были первыми
землянами, вышедшими без скафандров в открытый отравленный космос Венеры на
Третьем Дангауэровском проезде. О судьба первоисследователя! Ты заносишь
меня то на Марс к одноглазому штукатуру, то на Венеру к веселой Надьке с
шальными глазами на ушах. О недостоверность спасения в посадочном модуле
лифта! Разболтанная дребезжащая капсула "снуппи", везущая нас в
экспедиционный венерический корабль Надькиной жилплощади! Несчастная
трясущаяся кабинка, держащаяся только на трех буквах, которыми сплошь
исписаны слабые стенки! Непостижимость русской каббалы мистической
математики, совершенно неэвклидовой, состоящей из одних иксов, игреков и
перевернутых "№"! Боже мой, неужели никто не понимает, что только наш
родимый ум Лобачевского, с младенчества занятый обдумыванием этих
таинственных знаков -- X, У, И -- на каждой свободной плоскости нашего мира,
смог породить новое представление о пространстве?.. -- Что ты несешь, шизик
мой леденцовый? -- ворковала Надька, выпихивая меня из лифта. "До свидания,
Венера, до свидания! " -- махал я слабеющими ручонками проваливающейся в
шахту кабинке, глядя, как Надька отпирает дверь квартиры. "... На пыльных


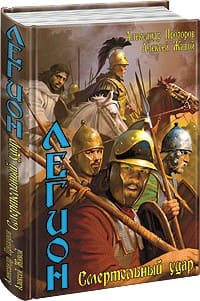
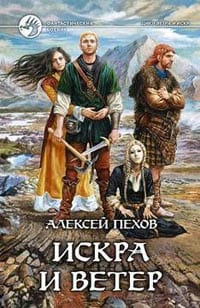


 Панов Вадим
Панов Вадим Березин Федор
Березин Федор Шилова Юлия
Шилова Юлия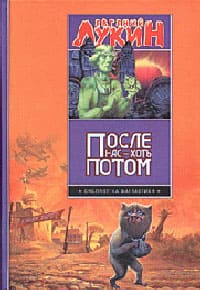 Лукин Евгений
Лукин Евгений Никитин Юрий
Никитин Юрий Лукин Евгений
Лукин Евгений