подписали точно такие же контракты. А спустя несколько дней я приступил к
работе в особом отделе.
возникло позднее. Дело в том, что мы расположились на тридцать первом этаже,
выше всех. Первоначально на месте отдела предполагался какой-нибудь склад
или чердачные помещения, так что многие даже и не подозревали о его
существовании. Лифт до тридцать первого не ходит. Попасть туда можно только
по железной винтовой лестнице, очень узкой. Окон там тоже нет, только на
потолке два люка для света. Поместили нас туда, как нам было сказано, с
двоякой целью. Во-первых, чтобы обеспечить нам необходимый для работы покой,
во-вторых, чтобы легче было соблюдать условия строжайшей секретности на весь
организационный период. Даже часы работы у нас были другие, и, кстати
сказать, рабочий день значительно короче, чем у остальных сотрудников
концерна. Тогда все это представлялось вполне естественным. Вы удивлены?
Вообразите себе две дюжины отъявленных индивидуалистов, две дюжины
непокорных умов, не приведенных заблаговременно к общему знаменателю.
Главным редактором у нас был абсолютно безграмотный тип, который
впоследствии занял в концерне весьма видное положение. Я могу отлично
пополнить имеющийся у вас запас анекдотов, если расскажу, что ему удалось
сделать такую карьеру в журналистике именно потому, что он точно так же, как
шеф и издатель, страдает алексией, то есть словесной слепотой. Впрочем,
тогда он не задирал нос. Первый номер был подписан в набор только месяцев
через восемь, отчасти потому, что нас очень задерживал производственный
отдел. Номер получился что надо -- резкий, смелый, и, к нашему величайшему
удивлению, он встретил самый благосклонный прием у руководителей концерна.
Хотя большинство статей было написано в резко критическом тоне и подвергало
критике решительно все, включая еженедельники самого концерна, по поводу
содержания мы не услышали ни одного худого слова. Нам просто указали на ряд
технических погрешностей и прежде всего предложили повысить темпы. Ибо пока
мы не можем гарантировать выпуск двух номеров в месяц, нечего и думать об
открытой публикации. И это тоже казалось вполне естественным.
неповоротливыми наборщиками и несовершенной печатью сумели давать два номера
в месяц. Журнал выходил регулярно. Мы делали десять пробных оттисков каждого
номера и отдавали их в переплет для архива. Из-за строжайшей секретности мы
не могли взять на вынос ни один номер. Ну, когда мы добились такой
периодичности, руководство концерна выразило живейшее удовлетворение и, я бы
даже сказал, удовольствие и заявило, что теперь осталось только одно --
разработать новый макет журнала, придать журналу современную форму, которая
поможет ему справиться с жестокой конкуренцией на открытом рынке. И хотите
верьте, хотите нет, но лишь после того, как некая таинственная группа
экспертов восемь месяцев бесплодно прозанималась поисками этой современной
формы, мы начали...
мы стали возражать, они в два счета укротили нас обещанием увеличить тираж
пробного выпуска до пятисот экземпляров якобы затем, чтобы рассылать их по
редакциям ежедневных газет и по всяким высоким инстанциям. Со временем мы
догадались, что нас обманули, но только со временем. Когда мы, к примеру,
совершенно точно установили, что название нашего журнала никому не известно,
что содержание его никем не комментируется, и по этим признакам догадались,
что никуда его не рассылают. Что его используют в качестве коррелята, или,
другими словами, в качестве указателя, как и о чем не следует писать. Мы
по-прежнему получали свои десять экземпляров. Ну, а дальше...
клин. Изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год культурная элита
страны, последние из могикан, сидели в этих мрачных катакомбах и с убывающим
энтузиазмом выжимали из себя очередной номер, который, несмотря ни на что,
оставался единственным во всей стране журналом, достойным своего звания. И
единственным во всей стране журналом, никогда не увидевшим света... За это
время мы выслушали тысячи объяснений на тему, почему все должно быть именно
так, а не иначе. Окончательная форма представлялась не совсем
удовлетворительной, темпы выпуска -- недостаточно высокими, не хватало
типографских мощностей. Ну и так далее. Только содержание никогда не
вызывало нареканий,
не поздно, сознание народа, некоторых оно могло бы попросту спасти. Я
уверен, что это так.
проще: мы не могли.
в неоплатном долгу перед концерном. Проработав всего лишь год, я уже
задолжал примерно половину того, что получил. Через пять лет цифра долга
соответственно выросла в пять раз, через пятнадцать лет она достигла
астрономических размеров -- во всяком случае, для людей с обычными доходами.
Это был так называемый "технический долг". Мы регулярно получали извещение о
том, на какую именно сумму он возрос. Но никто с нас не требовал выплаты
долга. И не собирался требовать до той минуты, пока кто-нибудь из нас не
вздумает уйти из тридцать первого отдела.
получил наследство. И хотя наследство было весьма значительное, почти
половина его ушла на то, чтобы выплатить концерну задолженность.
Задолженность, которая с помощью различных махинаций продолжала возрастать
до той самой минуты, когда я проставил сумму на чеке. Но я вырвался. Я бы
вырвался даже в том случае, если бы на это ушло все мое состояние. Если бы я
знал, как это делают, я мог бы украсть или ограбить кого-нибудь, лишь бы
добыть нужную сумму.
наши дни большой популярностью.
убийство, духовное убийство, куда более страшное и подлое, чем убийство
физическое, убийство бесчисленных идей, убийство способности мыслить,
убийство свободы слова. Преднамеренное убийство по первому разряду --
убийство целой области нашей культуры. А причина убийства -- самая гнусная
из всех мыслимых причин: гарантировать народу душевный покой, чтобы приучить
его покорно глотать все, чем его пичкают. Вы понимаете -- беспрепятственно
сеять равнодушие, вводить в организм отраву, предварительно убедившись, что
в стране не осталось ни врачей, ни противоядия.
продолжал:
недурно, если не считать тех девятерых, которые помещались, умерли или
покончили с собой. И что концерну недешево обошлось удовольствие регулярно
вкладывать деньги в журнал, так никогда и не увидевший света. Но деньги для
них -- тьфу! Когда финансовые декларации составляют у них такие ловкачи и
когда в налоговом управлении служат эти же... -- Он не покончил и вдруг
сказал с неожиданным спокойствием: -- Простите, я прибегаю к недостойной
аргументации. Ну, разумеется, я все признаю. Вы ведь знали с самого начала,
что так оно и будет. Но во-первых, я решил предварительно отвести душу, а
во-вторых, я проделал эксперимент местного значения. Я хотел посмотреть,
сколько времени можно протянуть не сознаваясь.
привлечь к этому делу хоть какое-нибудь внимание. Но почти сразу я понял,
что нечего и надеяться написать и опубликовать где-нибудь хоть строчку. И
тогда я подумал, что в народе могла сохраниться способность реагировать по
крайней мере на проявления жестокости и сенсационные происшествия. Тут я и
послал письмо. Разумеется, я поступил неправильно. Как раз в тот день мне
разрешили наконец посетить одного из моих прежних коллег, который сидит в
сумасшедшем доме, что напротив концерна. И вот я стоял и смотрел, как
полиция перекрывает улицу, как съезжаются пожарные машины, как персонал
покидает здание. Но о событии не было сказано ни звука, не было напечатано
ни слова, не говоря уже о каких-нибудь комментариях.
если вам нужны вещественные доказательства, нет ничего проще. Они все здесь.
вами номер несуществующего журнала. Последний из выпущенных при мне.
рискнули выпустить нас на свободу. Мы поднимали любые вопросы. Табу для нас
не существовало.
не выражало. Он принялся изучать разворот, посвященный выяснению
физиологической стороны вопроса: почему падает рождаемость и растет





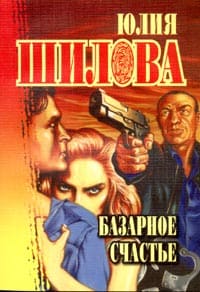
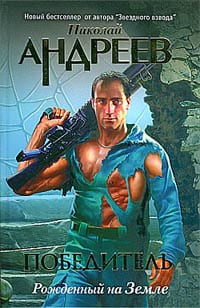 Андреев Николай
Андреев Николай Прозоров Александр
Прозоров Александр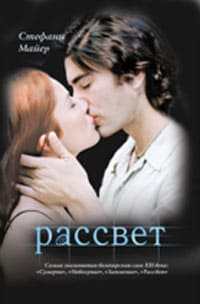 Майер Стефани
Майер Стефани Максимов Альберт
Максимов Альберт Свержин Владимир
Свержин Владимир Круз Андрей
Круз Андрей