солнечный свет, голубизна неба, зелень начавшей распускаться листвы и
расчерченная на четкие квадраты белизна облицованной кафелем стены ударили
по зрачкам, как шипастая перчатка уличного хулигана. Это было почти больно,
но распростертый на спине человек с бледным, казавшимся изможденным лицом, с
которого совсем недавно сошли последние синяки и ссадины, улыбнулся
солнечному свету, который окрашивал темноту под сомкнутыми веками в глубокий
красный цвет и ощутимо пригревал его впалые щеки сквозь двойное стекло
большого, почти во всю стену, квадратного окна.
тумбочке очки с дымчатыми стеклами. Очки были новые, в дорогой золоченой
оправе, которая очень ему не нравилась и вдобавок ощутимо натирала
переносицу. Надев очки, он привычно подумал, что позже надо будет как-нибудь
незаметно сменить оправу, сказав, что очки опять разбились.
увидит вокруг ничего нового, и все-таки поднял веки с удовольствием. Прошло
уже довольно много времени с тех пор, как он оказался в этом выложенном
кафелем, как общественный туалет, помещении с белоснежным потолком и желтыми
шелковыми шторами на окнах, но каждое пробуждение доставляло ему ни с чем не
сравнимое удовольствие, особенно с тех пор, как небо за окном стало голубым,
а почки на ветвях деревьев наконец лопнули, в одну ночь выбросив клейкие
зеленые флажки молодой листвы, словно вся растительность в городе,
сговорившись, объявила ?священную войну? - джихад - ослабевшей зиме.
открыть глаза, он сразу вспомнил, что сегодня ему клятвенно обещали снять
гипс и с ребер, и с ноги. Правда, это обещание было вырвано почти насильно,
под угрозой побега через окно второго этажа, но это уже детали.
приятно, тем более что он чувствовал, что отпущенное ему на это занятие
время вот-вот истечет. Сейчас же тело блаженно впитывало в себя покой, как
сухая губка впитывает воду, аккумулируя силы где-то глубоко внутри, и Глеб
Сиверов позволял телу делать все, что тому заблагорассудится. Когда снимут
гипс, будет время на то, чтобы привести расслабленные мускулы в порядок, а
пока Слепой отдыхал. Омрачала его безоблачное растительное существование
только санитарка Василиса Гавриловна, которая как раз в этот момент вошла в
палату, громыхая ведром и с неприятным влажным шорохом волоча за собой по
полу длинную швабру с намотанным на нее куском мокрой мешковины, игравшим
роль половой тряпки.
всегда, угрюмо проворчала что-то неразборчивое в том смысле, что для
бездельников все утра хороши, а вот иным-прочим приходится с утра пораньше
дерьмо разгребать.
уставился на санитарку, которая, громыхая и шаркая, тяжело передвигалась по
палате, размазывая по полу грязноватую воду, издававшую неприятный запах
лизола. Он никак не мог понять, было ли постоянное хамство Василисы
Гавриловны природной чертой ее характера или проявлялось только тогда, когда
ей поневоле приходилось общаться с пациентом из шестнадцатого бокса.
?Шалишь, - подумал он, подстрекаемый поселившимся в его душе сегодня утром
веселым бесом, - я тебя разговорю, старая перечница."
так не любите?
него под кроватью и даже не подняв головы, - и любить мне тебя не за что.
Тебя другие любят, а я тебе ни к чему. Пол вот помою, говно за тобой вынесу
и уйду. На что тебе моя любовь? Тебе и так хорошо. Развели здесь..,
родственнички, - совсем уже непонятно закончила она, подхватила ведро и
вышла, тяжело ступая тумбообразными ногами.
пачку сигарет. Красно-белая картонная пачка ?Мальборо?, полежав под
больничным тюфяком, приобрела совершенно непрезентабельный вид,
расплющившись так, словно по ней проехались асфальтовым катком. Глеб откинул
сломанную крышечку, с трудом выцарапал из пачки плоскую, покрытую мелкими
морщинками сигарету, щелкнул голубенькой одноразовой зажигалкой и с
удовольствием закурил. Василиса Гавриловна дежурила в среднем два раза в
неделю, и ее странное отношение можно было с грехом пополам пережить. Вот
только что она имела в виду, говоря о родственниках?
военного обозрения?, забытый здесь кем-то из его предшественников, раскрыл
его на статье о новой модели израильского легкого танка, оторвал от страницы
уголок и свернул его кулечком, получив таким образом одноразовую пепельницу
наподобие тех слепленных из хлебного мякиша чернильниц, которыми, если
верить некоторым биографам, пользовался, сидя в Петропавловке, вождь
мирового пролетариата. Он писал молоком между страниц переданных ему с воли
книг, а когда в камеру заглядывал надзиратель, просто съедал свой письменный
прибор. Съесть наполненный сигаретным пеплом бумажный фунтик было, конечно
же, нельзя, но зато в случае неожиданного обхода он легко прятался в кулаке.
Стряхивая пепел в бумажку, Глеб между делом позавидовал вождю: судя по
всему, в крепости тому сиделось недурно. Книги, молоко и такое количество
хлеба, что он мог себе позволить лепить из него чернильницы... Его бы в нашу
зону, с усмешкой подумал Глеб и стыдливо спрятал изуродованный журнал, в
котором недоставало уже доброй трети страниц, на нижнюю полку тумбочки.
покрутил регулятор громкости в смутной надежде услышать какой-нибудь
классический концерт или, на худой конец, свежий выпуск новостей.
Репродуктор разразился хриплым треском, как будто прочищая горло, и
запел, ?Ты бросил меня, ты бросил меня?, - пронзительно запричитал динамик,
и Глеб поспешно вывернул регулятор громкости влево до упора, обрывая
коллективную девичью жалобу. В палате стало тихо, но Глеб, не удержавшись,
опасливо покосился на окно, как будто ожидая, что в него вот-вот, с треском
и звоном проломив двойную раму, влетит подарочек от российских ВВС -
управляемая ракета класса ?воздух-воздух?. Популярная песня, которую сейчас
можно было услышать на каждом углу, для Глеба Сиверова теперь навсегда была
связана с массированной бомбардировкой неразрушимыми стальными узами
условного рефлекса. Немного утешало только то, что этому хиту наверняка
осталось звучать максимум полгода. ?В рубашке родился?, - помнится, сказал
ему тогда один рыжий разгильдяй, а он, с трудом разлепив спекшиеся губы,
проскрипел в ответ: ?В бушлате. В деревянном, мать его..."
очередную порцию пота и копоти и возобновил раскопки, осторожно снимая с
груди Слепого бесформенные куски намертво скрепленных цементным раствором
кирпичных обломков и со скрежещущим стуком отбрасывая их в сторону.
потому что при каждом вдохе концы сломанных ребер терлись друг о друга, и
это было чертовски больно. Вокруг ничего не было, кроме густого черного
дыма, медленно оседавших облаков известковой пыли и нагромождений горелого,
битого-перебитого, превращенного в щебень кирпича. Глеб пожалел, что так
много грешил при жизни и редко посещал церковь: здесь, в аду, было
препаршиво. К тому же то обстоятельство, что сломанные при жизни ребра
продолжали болеть и после смерти, показалось ему ужасно несправедливым. -
Слушай, рыжий, - - для разгона повторил он, - а ты как здесь очутился? Тоже
небось в Бога не верил? Так тебе и надо, разгильдяю. Я же говорил: иди
осторожно, а то шлепнут. Девчонка-то хоть жива?
откатывая в сторону здоровенный обломок стены. - Ты молчи, командир. Вредно
тебе разговаривать.
девчонку... Жаль.
такой позе он немного напоминал рыжего ободранного Сизифа, и Глеб как раз
хотел спросить его, за что его так жестоко наказали, но тут Тараканов, пару
раз по-рыбьи хватанув воздух ртом, заговорил сам.
или ты просто еще не очухался?
на носу почему-то не было. В голове у него мало-помалу прояснилось, и он
почувствовал неловкость.
это мы с тобой на том свете беседуем. Вот идиот... Погоди, тогда тем более
непонятно, откуда ты здесь взялся. Ты же сейчас должен был во-о-он где
быть...
должен быть! Тебе бы такого попутчика. Уперлась, как ишак, всеми четырьмя
ногами. Ты что же, говорит, так и уйдешь? А он, говорит, как же? Он,
говорит, тебе жизнь спас, а ты, значит, в кусты, потому что приказ? Ну я и
подумал: в самом деле, а кто мне приказал-то? Ни погон, ни документов, а
камуфляж на базаре купить можно... Что, думаю, он мне за начальник? Пришел
какой-то штатский, сказал: иди, мол, отсюда, сержант, не путайся под
ногами... А я что же, слушаться должен? Да и не люблю я в долгу оставаться.
Последнее это дело - долги копить. Не знаю, как тебя, а меня мой батя так
учил.
сморщилось, как у деревенской старухи, и Глеб, с трудом приподняв голову,
посмотрел на свою ногу. Стопа была неестественно вывернута, а посреди голени
образовалось еще одно, не предусмотренное матерью-природой, колено. Вокруг
этого места пыльная штанина почернела от пропитавшей ее насквозь крови.
видел?



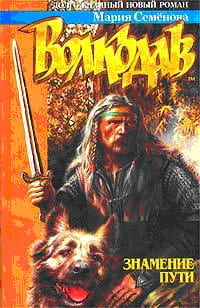
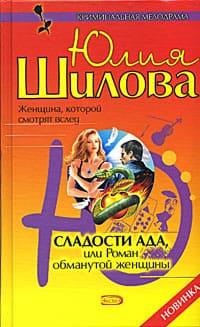

 Шилова Юлия
Шилова Юлия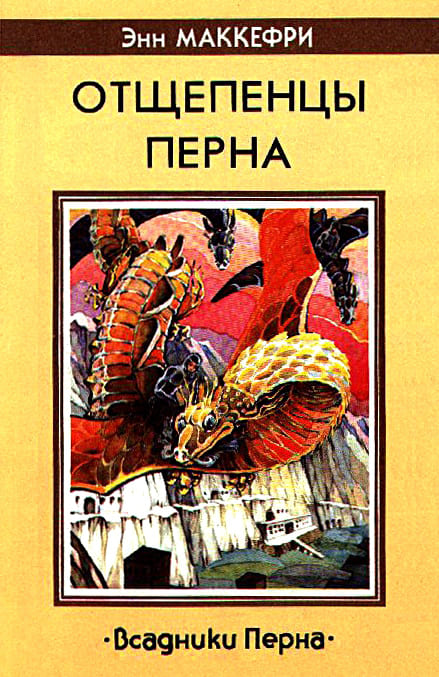 Маккефри Энн
Маккефри Энн Корнев Павел
Корнев Павел Бажанов Олег
Бажанов Олег Шилова Юлия
Шилова Юлия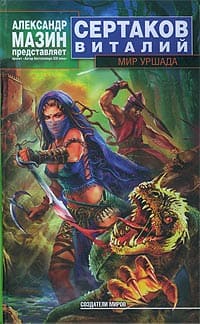 Сертаков Виталий
Сертаков Виталий