куртке, он назвал ее Евой. Видно, она его дочь. Высокого, крепкого
человека я узнал, это был кузнец, здешний кузнец. За несколько дней до
того он приделал новый курок к одному из моих ружей...
было промозгло и неуютно, скрипели гнилые ветки да вороны собирались
стаями и каркали. Но длилось это недолго, солнышко затаилось совсем
близко, и однажды утром оно поднялось из-за леса. Солнце встает, и меня
пронизывает восторгом; я вскидываю ружье на плечо, замирая от радости.
4
подстрелю зайца, то глухаря, то куропатку, а когда мне случалось
спуститься к берегу и подойти на выстрел к морской птице, я, бывало, и ее
подстрелю. Славная была пора, дни делались все длиннее, воздух чище, я
запасался едой на два дня и пускался в горы, к самым вершинам, там я
сходился с лопарями-оленеводами, и они давали мне сыру, небольшие жирные
сыры, отдающие травой. Я ходил туда не раз. На возвратном пути я всегда
подстреливал какую-нибудь птицу и совал в сумку. Я присаживался и брал
Эзопа на поводок. В миле подо мной было море; скалы мокры и черны от воды,
что журчит под ними, плещет и журчит, и все одна и та же у воды
незатейливая музыка. Эта тихая музыка скоротала мне не один час, когда я
сидел в горах и смотрел вокруг. Вот журчит себе нехитрая, нескончаемая
песенка, думал я, и никто-то ее не слышит, никто-то о ней не вспомнит, а
она журчит себе и журчит, и так без конца, без конца! Я слушал эту
песенку, и мне уже казалось, что я не один тут в горах. Случались и
происшествия: прогремит гром, сорвется и упадет в отвес обломок скалы,
оставив дымящуюся осколками дорожку на круче; Эзоп тотчас же поднимал
морду, принюхивался, он недоумевал, откуда это тянет гарью. Когда потоки
талого снега проточат ложбинки в горах, достаточно выстрела, даже громкого
крика, чтобы большая глыба сорвалась и рухнула в море...
перебрасывал сумку на другое плечо и шагал к дому. Вечерело. Сойдя в лес,
я неизменно нападал на знакомую свою тропку, узенькую ленту, всю в
удивительных изгибах. Я прилежно следовал за каждым изгибом, - спешить
было некуда, никто ведь меня не ждал; вольный, как ветер, я шел по своим
владеньям, по мирному лесу, и мне не к чему было ускорять шаг. Птицы уже
молчали, только тетерев токовал вдалеке, он токовал без умолку.
их; это оказалась йомфру Эдварда, я узнал ее и поклонился; с ней был
доктор. Пришлось показывать им ружье, они осмотрели мой компас, мою сумку;
я пригласил их к себе в сторожку, и они пообещались как-нибудь зайти.
Завтра снова будет день...
заката. Солнце уже зашло и оставило на горизонте густой, застывший отсвет,
словно нанесенный алой краской. Небо везде чисто и открыто, я глядел в эту
ясную глубь, и мне словно обнажилось дно мира, и сердце стучало и
стремилось к этому голому дну, рвалось к нему. Ну почему, почему, думал я,
горизонт одевается по вечерам в золото и багрянец, уж не пир ли у них там,
наверху, роскошный пир с катаньем по небесным потокам под музыку звезд. А
ведь похоже! И я закрываю глаза, и вот уже я с пирующими, и мысли мои
мелькают одна за другой и путаются.
у меня хватало еды, я даже не разряжал ружья, я просто гулял, а время все
шло и шло. Всюду, куда ни оглянешься, было на что поглядеть, что
послушать, с каждым днем все потихоньку менялось, даже ивняк и
можжевельник и те затаились и ждали весну. Сходил я и на мельницу, она
пока была под ледяной коркой; но земля вокруг утопталась за множество лет
и ясно показывала, что сюда приходят люди с тяжелыми мешками зерна. И я
словно бы потолкался тут среди людей в ожиданье помола, а на стенах во
множестве были вырезаны буквы и даты.
5
удовольствия, да и просто время скоротаю, рассказывая, как два года назад
настала весна и как глядело все кругом. Земля и море чуть-чуть запахли,
сладко запахло прелью от лежалой листвы, и сороки летали с прутиками в
клювах и строили гнезда. Еще несколько дней, и ручьи вспенились, вздулись,
и уже над кустами суетились крапивницы, и рыбаки вернулись с зимних
промыслов. Две торговые баржи, доверху груженные рыбой, стали на якорь
возле сушилен; на островке побольше, где распластывали рыбу для сушки,
закипела жизнь. Мне все было видно из моего окна.
одиночества. Случалось, пройдет кто-нибудь мимо; мне встретилась Ева, дочь
кузнеца, на носу у нее выступили веснушки, совсем немного.
опять был белый платок. Я посмотрел ей вслед, но она не оглянулась.
сидели на макушках деревьев, пялились на солнце и горланили; иной раз я
вставал даже и в два, чтоб вместе со зверьем-и птицами порадоваться на
восход.
выстукивали шаги. Я сидел у себя дома и думал о том, что надо бы осмотреть
вентеря и лесы, однако же и пальцем не шевелил; смутная пугливая радость
бродила в сердце. Но вот Эзоп вдруг вскочил, замер и коротко тявкнул. К
сторожке уже подходили, я поскорей стянул с головы картуз и услышал под
дверью голос йомфру Эдварды. Значит, они с доктором, как обещались, решили
запросто, без церемоний заглянуть ко мне.
руку. - Мы и вчера тут были, да вас не застали, - пояснила она.
доктор поместился рядом со мной на скамье. Мы принялись болтать, мы
говорили о всякой всячине; между прочим, я рассказал им, какой зверь
водится в лесу и когда какую дичь запрещается стрелять. Теперь запрещается
стрелять глухарей.
Пана у меня на пороховнице, он пустился разъяснять миф о Пане.
запретят?
этой сторожке жил один англичанин, так он часто приходил к нам обедать.
нежного привета. Это все весна, все яркий день, мне запомнилась та минута.
И потом, у Эдварды были такие восхитительные, дугами выгнутые брови.
и перьями, просто логово дикаря. Эдварде это понравилось.
удовольствие, и решил зажарить птицу. Можно есть ее руками, как на охоте;
это очень весело.
разговаривал. Он был католик и всюду таскал с собой в кармане молитвенник
с черными и красными буквами.
и я сказал:
Норвегию.
гвозде у двери, и несколько петель прорвалось от ржавчины; я заострил
крючки, загнул их, проверил невод. Как трудно было собраться и думать о
делах! В голове мелькали все ненужные мысли. Нехорошо, что я оставил
йомфру Эдварду на нарах, надо бы усадить ее на скамье. Вдруг мне
представилось ее смуглое лицо и смуглая шея; передник она повязывала ниже
пояса, чтоб талия получалась длинная, по моде; я вспомнил, какое
девическое стыдливое выражение у ее большого пальца, он возбуждал во мне
нежность, и складочки у суставов такие приветливые. И как горел ее большой
рот.
слушать-то было нечего. Я снова затворил дверь. Эзоп поднялся с подстилки,
он почуял неладное. Мне приходит в голову догнать йомфру Эдварду и



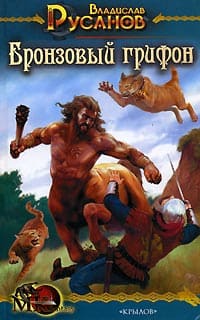


 Пехов Алексей
Пехов Алексей Рыбаков Вячеслав
Рыбаков Вячеслав Шилова Юлия
Шилова Юлия Махров Алексей
Махров Алексей Доставалов Александр
Доставалов Александр Круз Андрей
Круз Андрей