Владимир ГОНИК
ПЕСНЯ ПЕВЦА ЗА СЦЕНОЙ
что службу знал, однако и его взяла оторопь: остолбенел, дышать боялся.
работники и всего насмотрелись.
большом мрачном здании на Владимирской улице, по которой в ту пору ходил
трамвай.
грубо тесаным гранитом - не дом, неприступная крепость, выдолбленная в
скале.
киевской улице среди зелени, старинных домов, ажурных балконов, веселых
крикливых дворов и парящих поблизости в поднебесьи воздушно-невесомых
куполов Софии.
Малоподвальной. Даже праздный прохожий ускорял здесь шаги с холодом в
груди и замиранием сердца; то была неосознанная тревога, какую рождает вид
кладбища или тюрьмы.
всегда наглухо - ни щелей, ни просветов, и если кому-то удавалось случайно
проникнуть взглядом внутрь, то поверх занавесок открывались лишь портреты
вождей, взирающих строго с голых стен.
проходили второпях и, отойдя, испытывали облегчение. Стоило прохожему
зазеваться, рядом вырастал человек с липким взглядом и такой неприметной и
стертой наружности, что не запомнишь, как ни старайся.
мыли частенько в уютном дворике за решеткой, в погожий день бьющая из
шланга струя сверкала ярко на солнце, черные глянцевые лимузины слепили
блеском прохожих, а мокрый асфальт парно дымился, словно после дождя.
железными воротами. Даже несмышленышу понятно было, что помещается здесь
серьезное заведение. Впрочем, вслух интереса никто не проявлял, без слов
понятно было. А тем, кто не знал, приезжему, скажем, довольно было беглого
взгляда, чтобы все понять.
выдумка, даже издали заметны были большие каменные буквы, выложенные по
фронтону: ДВОРЕЦ ТРУДА.
только-только школу кончил. И этот молокосос совершил такое, что не
укладывалось в голове. Тщедушный, мелкий телом - узкие плечи, тонкая
кость, в чем только душа держится, а вот на тебе, откуда что взялось:
закоренелый убийца и бандит в подметки не годились этому сопляку.
мгновение следователь и конвоир потеряли дар речи, лишь затравленно
глянули друг на друга и поозирались беспомощно - нет ли еще кого. В этих
стенах они всего насмотрелись, и похоже, на свете не было ничего такого,
что могло бы их поразить. Но оказалось - есть: любое злодейство меркло в
сравнении с тем, что стряслось.
возможно. И одно уже то, что все произошло в их присутствии, делало их как
бы соучастниками; при желании можно было усмотреть сговор: обязаны были
предусмотреть и предотвратить, но, видно, не смогли или не захотели. И тут
уж - страшно подумать! - сама собой напрашивалась мысль о заговоре.
делать и как быть. Весь опыт борьбы с врагами потеряли они в этот миг, всю
революционную свою бдительность и железную стойкость, о которых день и
ночь трубила страна - растерялись, как дети, и забыли себя.
немыслимая, просто чудовищная тяжесть преступления.
не встречали - не подозревали даже!
такое. Что ни день привозили их сюда поодиночке и скопом, но ни один пока
не решился, никому даже в голову не пришло. И что конвоир, что следователь
- да возьми любого служивого, никто и помыслить не смел, что такое
возможно.
осмыслить и понять. В следующий миг они отважно вцепились в арестанта,
хотя и пребывали в некоторой растерянности: после содеянного отнять чужую
жизнь для злодея проще простого - убьет, глазом не моргнет. Если уж на
такое пошел, значит, не осталось для него ничего святого: он мог
надругаться над ребенком, взорвать детский сад или отравить городской
водопровод. А убить двух сотрудников органов, двух славных чекистов, для
него одно удовольствие. Как говорится, пустяк, а приятно.
большевистским пылом и рвением.
не пытался бежать, не сопротивлялся. Напротив, он был непостижимо спокоен
и улыбался вяло, будто опостылело ему все и даже разговаривать лень.
следователь не знал, что и думать.
чтоб так сразу, после ареста, едва переступив порог, решиться на гнусное,
неслыханно гнусное преступление, такого следователь не помнил и не знал.
Он ломал голову и терялся в догадках: не мог нормальный человек в здравом
уме решиться на такое. При всем своем опыте и классовом чутье следователь
объяснений не находил.
мрачно высилась над холмом, по которому резво сбегали на Крещатик горбатые
булыжные улицы, петляли зеленые извилистые переулки и, тесня друг друга,
шумно жили веселые киевские дворы.
зарешеченные изнутри, на втором этаже вдоль всего здания тянулся длинный
каменный балкон с балясинами. Сверху, как причудливая шляпа, Дворец
венчала крытая железом двойная мансарда, откуда открывался прекрасный вид
на Киев, а внизу, рядом с главным входом, по обе стороны располагались
полукруглые ниши, явно предназначенные для скульптур.
прохожим испытать себя, свою отвагу: постоять мгновение в нише, изобразить
кого-то мог лишь отчаянный смельчак.
кирпичная стена, из которой торчали железные крючья.
Софии, широко открывалась поблизости площадь Богдана Хмельницкого, куда на
полном скаку вынес гетмана горячий конь, а еще дальше, за пожарной
каланчой привольно лежали на крутых склонах вдоль Днепра парки, тянулись
неоглядно, кипела буйно зелень, и плыла невесомо в небе над крышами,
деревьями и древними прибрежными холмами построенная итальянцем Растрелли
Андреевская церковь.
плющом, мшистый и покрытый зеленой патиной памятник, который по вечерам
освещали старинные фонари, трамвай тащился к Золотоворотскому садику, где
на пригорке среди деревьев дремали руины поставленных еще князем Ярославом
городских ворот, и плелся дальше, в сторону оперы и университета.
поднимались по склонам один над другим - светлые нарядные здания,
причудливые фасады, арки, большие венецианские окна, лепнина, кариатиды,
кружева решеток... Над улицами и дворами, над деревьями висели живописные
балконы и мансарды, летом их затапливало солнце, зимой укутывал снег, в
котором вязли городские звуки.
бесцеремонно раздвинул соседние дома, очистил пространство для себя, и все
окрестные дома, казалось, посторонились, страшась опасного соседа.
шлюпок и прогулочных катеров, которые робко держатся поодаль.
всегда жили врачи, артисты, художники, адвокаты, университетские
профессора, музыканты, для которых удобно было иметь под боком рестораны,
театры, ателье, фотостудии и кафе, а магазины на торговой улице Прорезной
влекли горожан и приезжих: многоликая толпа текла и клубилась здесь что ни
день.
трамваев, цокот копыт, неразборчивый гомон, автомобильные гудки, но больше
всего в те годы киевляне любили патефон. Пестрая мешанина оперных арий,
фокстротов, голосистых народных песен, томных романсов, сладких немецких
песенок с трофейных пластинок, знойных танго и бравурных маршей висит и
колышется над городом с раннего утра и до позднего вечера. Лишь к ночи,
когда за открытыми окнами, на балконах и во дворах смолкают патефоны, в
город приходит тишина. Она наполняет емкое пространство над улицами, где
при свете дня кишмя-кишат звуки.






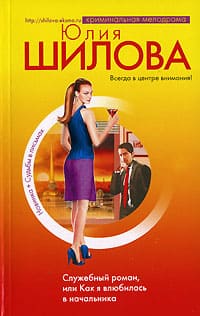 Шилова Юлия
Шилова Юлия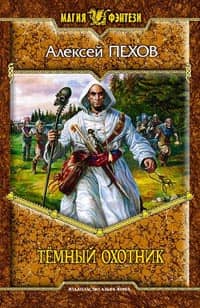 Пехов Алексей
Пехов Алексей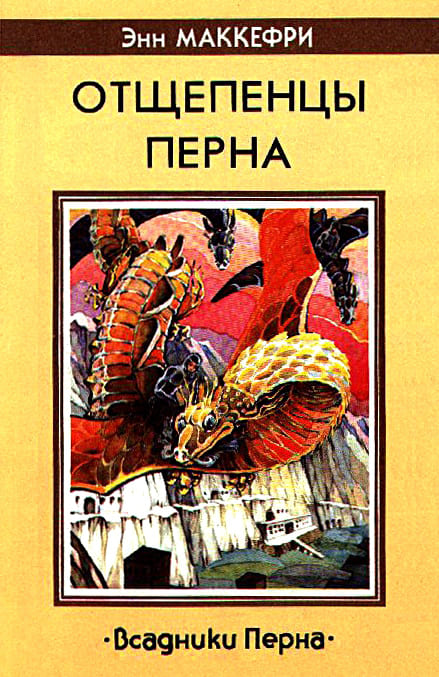 Маккефри Энн
Маккефри Энн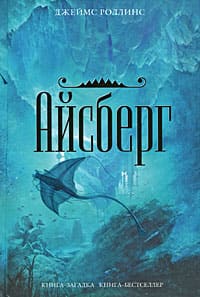 Роллинс Джеймс
Роллинс Джеймс Плотников Александр
Плотников Александр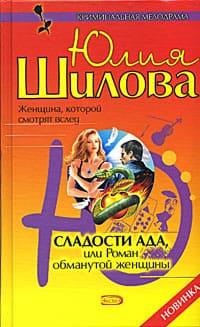 Шилова Юлия
Шилова Юлия