не торопясь, вместе подходят на своих мягких лапах к одному краю стола и
спрыгивают на пол.
Чтобы привлечь их внимание, она склоняется к ним, держась одной рукой
за ручку кресла, а другой поглаживая шкатулку Манеша, и тихо говорит: "В
этой шкатулке лежит часть моей жизни. Как видите, я рассказываю здесь о
себе в третьем лице, словно о чужой. И знаете почему? Мне просто стыдно,
что я - это только я и что я вряд ли сумею достичь своей цели".
"Какой цели?" - думает она под их невозмутимыми взглядами. И не знает.
Но кошки не требуют объяснений и спокойно отправляются в угол мечтать о
быстротекущей жизни, им наверняка и так все известно.
"Скобяная лавка Лепренса.
Улица Дам, 3, Париж.
25 января 1920 года.
Мадемуазель!
Пользуюсь воскресным днем, чтобы ответить на ваше объявление в "Ле
Боном". Спешу сообщить, что деньги мне не нужны. Я не из числа подлецов,
готовых нажиться на несчастье людей, разыскивающих пропавших на войне
родных. За исключением 1918 года, я всю войну провел в пехоте, был ранен
шрапнелью в ногу и госпитализирован. После выздоровления меня отправили в
полевую артиллерию - но это не лучше, потому что артиллеристы страдают не
меньше пехтуры, и я потерял пятьдесят процентов слуха. Но это другая
история.
Хочу сказать, что помню названную вами траншею, только в другие дни. Я
был там в ноябре 1916 года, когда колониальные войска взяли ее у бошей. Не
обижайтесь, коли я поправлю вас, но траншея называлась не Бинго, а Бинг в
Угрюмый день. Хорошо помню надпись на деревянной табличке, которую парни
до нас прикрепили к балке, служившей ей опорой. Я и сейчас ее вижу. Она
была написана в октябре другими бедолагами, когда они под обстрелом,
видно, рыли окопы.
Лично мне запомнился солдат по имени Селестен Пу Он служил в моем полку
Не думаю, впрочем, что на той войне могли оказаться двое таких, как он.
Иначе об этом стало бы известно, и мы бы выиграли или проиграли войну
раньше Такого пройдоху, как он, свет не видывал. Его прозвали Грозой
армий. Он крал сено у лошадей, чтобы обменять на вино для своего взвода,
придумывал липовые взводы, воскрешал мертвых, чтобы получше обчистить
полевую кухню. Конечно, товарищи уважали его. Это был такой хитрован, что
схватить его за руку было совершенно немыслимо Говорили, что под Верденом
он достал брошенное штабистами тушеное мясо, белый хлеб, вино и ликеры. Но
на все, как невинный ребенок, отвечал: "Клевета"
В 1918 году, служа в артиллерии, я узнал, что он хватанул в Сен-Мишеле
предназначенные американцам три ящика табаку, коньяк и сигареты, а взамен
отправил мешки с опилками. Разумеется, я помню Селестена Пу. Он уроженец
острова Олерон, голубоглазый блондин, способный своей улыбкой обворожить
девушек-сержантов. А уж коли спрашивал время, ему лучше было не отвечать,
ни тем более вынимать часы - считай, что тогда ты с ними распрощался.
Но раз о нем рассказывали в 1918 году в Сен-Мишеле, значит, он сумел
избежать многих неприятностей. Этого пройдоху вам следует искать
где-нибудь в районе Шаранты, и сами увидите, он жив-здоров. Что же
касается траншеи, то в указанные вами дни я там не был. Помнится, нас
сменили "Овсянники", и, возможно, в общем кавардаке Селестен сумел и их
пощипать.
Желаю вам, мадемуазель, найти тех, кого вы любите. А если окажетесь в
Батиньоле, не задумываясь приходите повидаться.
С уважением, Адольф Лепренс".
"Мадам Паоло Конте.
Дорога Жертв, 5, Марсель.
Суббота, 31 января 1920 года.
Дорогая мадемуазель!
Я слишком плоха, чтобы ответить на ваше письмо, я совсем не сплю по
ночам, разрываюсь между вами и моей крестницей Валентиной, которая и
слышать не хочет, чтобы вам написать. Она даже не дала своего адреса,
опасаясь, что я вам его сообщу. Надо теперь ждать, когда она снова приедет
меня проведать, не знаю, когда это будет. Она очень разозлилась на меня за
то, что я настаивала, ничего не могу поделать, только виню себя.
Отвечаю вам потому, что показала ваше письмо мадам Изола, подруге, о
которой уже писала и которую все уважают, она дает хорошие советы, и она
сказала: несчастная, ты сгоришь на медленном огне, если не напишешь все
как есть, что ложь ничего не дает, только сон теряешь и здоровье.
Так вот, я виделась с Валентиной в воскресенье девятого этого месяца
после годовой разлуки. Был полдень, на ней было синее бархатное пальто с
бобровым воротником и премиленькая шляпка с отделкой, которая стоит
сумасшедших денег Наверняка это подарок к Рождеству, она была вся
расфранченная, красивая и довольная, с красными от холода щеками. Ее
красивые глазки так и блестели, я была очень рада снова ее увидеть и
расцеловать. Пришлось даже присесть Мне она тоже привезла подарки -
льняное пиренейское покрывало, домашние туфли, испанские апельсины и
маленький золотой крестик, который отныне ношу на шее даже ночью, да, я
была рада, даже не могу сказать как. Затем я все испортила, дав ей
прочитать ваше письмо и особенно сказав, что ответила вам. Тут ее понесло
"Что ты вмешиваешься? - кричала она. - Что ты ей наговорила? Неужели не
видишь, что эта девушка не нам чета, своими красивыми словами она лишь
хочет нас одурачить". И еще говорила такое, что повторять стыдно. Я
уверена, что в вашем письме чистая правда, что ваш бедный жених повстречал
на войне ее Анжа Бассиньяно, что вы просто хотите с ней поговорить.
Короче, она пробыла у меня меньше часа, щеки у нее снова покраснели, но
не от холода, а от гнева, она мерила шагами кухню, стуча каблуками, а я
сидела на стуле, еле сдерживая слезы, и в конце концов расплакалась.
Тогда, направив мне в нос свой указательный палец, она сказала: "Слезами
делу не поможешь, крестная Бьянка. Разве я плачу? Я тебе однажды сказала,
что оторву башку тем, кто погубил Нино. А ты когда-нибудь видела, чтобы я
пускала слова на ветер?"
Она меня так напугала, что я узнать ее не могла, мою-то крестницу.
Только сказала ей: "Что ты несешь, несчастная? Что плохого сделала эта
девушка твоему неаполитанцу?" И тогда она заорала: "Мне плевать на нее, я
с ней не разговаривала! И мне нечего ей сказать. Я не хочу, чтобы ты ей
писала. Это мое дело, а не твое! Если она еще напишет, поступай как я".
Тут она сняла конфорку с печки и бросила туда ваше письмо, смяв его в
комок с такой злобой, которую, заверяю вас, я никогда прежде за ней не
знала, даже в ее пятнадцать лет, когда она взбрыкивала, если ей делали
замечание.
Потом сказала, что у нее дела в другом конце города, поцеловала на
пороге, но как-то холодно. Я слышала, как стучали ее каблучки по лестнице,
подошла к кухонному окну, чтобы увидеть, как она идет к тупичку. Я плакала
потому, что она казалась мне сверху такой маленькой в своем бобровом
воротнике, шапочке и муфте. Я так боюсь, что больше ее не увижу, так
боюсь.
Возобновляю письмо в воскресенье утром, у меня глаза уже не те, чтобы
много писать, должно быть, вы уже привыкли к этому. Вчера вечером я долго
думала о Валентине и устроенной ею сцене. Но сегодня ярко светит солнце, и
я уверена, что по весне она снова приедет, мне стало лучше, я облегчила
душу, сказав вам правду. Вы спрашиваете, почему в октябре я написала по
поводу Анжа Бассиньяно, что он "подох как собака, вернее всего от рук
французских солдат"? Так уж у меня вырвалось, я и представить себе не
могу, что он умер по-другому, чем жил, знаю - грешно так говорить,
особенно повесив на шею крестик, но это сильнее меня, я никогда бы не
поверила, что он умер во время штыковой атаки, как показывают на
картинках, он был слишком большим трусом, наверняка сделал какую-нибудь
гадость или глупость, и его просто расстреляли, но об этом не пожелали
сообщить, ведь такое не поднимает моральный дух другим и пачкает наше
знамя.
Вы просите объяснить слова Валентины, сказанные мне о том, что она
обнаружила следы Нино на участке фронта на Сомме и что его следует
"считать мертвым". Не уверена, что она сказала именно так, но наверняка
имела в виду, что с этим покончено, что не надо об этом говорить. Мы так и
поступали в прежние разы, мы о нем никогда не говорили.
Когда моя крестница снова пожалует ко мне, уверяю вас, дорогая
мадемуазель, я ей опять скажу правду о том, что написала вам, пусть шумит
себе и сердится. Я ведь знаю, что у нее доброе сердце, я сумею побороть ее
подозрительность. А когда вы с ней, надеюсь, встретитесь, то убедитесь,
что она заслуживала лучшей участи, чем ей выпало на роду, со всеми
горестями, которые эта жизнь ей принесла. Но такова уж судьба всех людей,
к сожалению.
Примите мои самые лучшие пожелания на Новый год, а также от мадам
Сциолла и мадам Изола.
С уважением к вам,
мадам вдова Паоло Конте, урожденная Ди Бокка".
"Пьер-Мари Рувьер.
Улица Курсель, 75, Париж.
Сего 3 февраля.
Моя маленькая Матти!
Твое решение дать объявление в газетах я не одобряю. Так же, как, хотя
и понятную, но зряшную снисходительность твоего отца. Я позволил себе
сказать ему об этом и хочу, чтобы ты знала.
Я много размышлял после нашей последней встречи. И если всякие задержки
и трудности с передачей сообщений, иначе говоря, наличие злой воли в том
или другом эшелоне власти, позволили свершиться той подлости, в которую ты
продолжаешь верить, я все же не вижу выгоды, которую ты получишь от



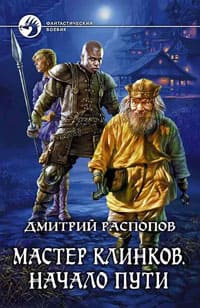
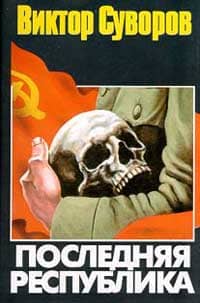

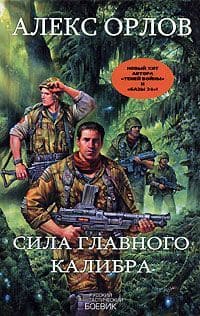 Орлов Алекс
Орлов Алекс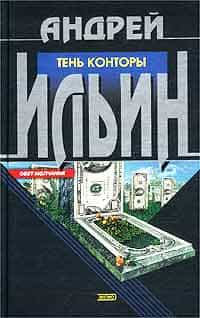 Ильин Андрей
Ильин Андрей Смоленский Вадим
Смоленский Вадим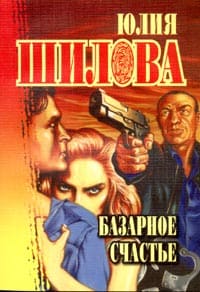 Шилова Юлия
Шилова Юлия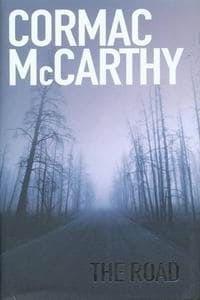 Маккарти Кормак
Маккарти Кормак Махров Алексей
Махров Алексей