разглашения этого дела. Ты действуешь словно вопреки очевидному и чисто
умозрительно отказываешься верить, что твои Манеш мертв. Я уважаю силу
твоей любви, и не мне, твоему другу, разубеждать тебя. Но я хочу сказать
одну простую, а может быть, и грубую вещь: не забывай, что взамен
расстрела Жан Этчевери получил бы пожизненную каторгу. Если ты каким-то
чудом или по Божьему промыслу встретишь его, то пожалеешь, что раззвонила
по всему свету об этой истории, ведь тебе не останется ничего другого, как
прятать его, дабы спасти от исполнения приговора.
Прошу тебя, умоляю, мою дорогую, такую импульсивную, но не теряющую
здравого смысла, отказаться от мысли напечатать снова это объявление и
соблюдать отныне величайшую осторожность. В своих поисках истины обращайся
только ко мне. Пойми, что, если хоть один из пятерых выбрался после той
заварухи, ты станешь для него опасной, это касается и Манеша, а те, кто
имел хоть какое-то отношение к той несправедливости, стараясь ее скрыть,
не могут не стать твоими врагами.
Надеюсь, ты меня поняла. Я целую тебя так же нежно, как тогда, когда ты
была маленькой.
Пьер-Мари".
На это письмо Матильда ответила, что она уже не ребенок, и точка.
"Оливье Бержеттон,
Собиратель механических игрушек, авеню Порт д'Орлеан, 150, Париж.
Понедельник, 15 марта 1920 года.
Мадемуазель!
Я знавал одного капрала Горда. Если это тот, которого вы разыскиваете,
то мы были с ним на Сомме, между Комблем и лесом в Сен-Пьер-Вааст. Я был
вахмистром и, хотя осенью 1916 года служил в другом полку, всегда забирал
его письма и письма его взвода. Мне было противно, что его корреспонденция
по причинам, о которых я не стану говорить, за исключением того, что во
всем был виновен один глупый чин, не могла быть вовремя отправлена.
Помнится, Горд был довольно высоким, лысоватым и скорее печальным
человеком. Я имею в виду, куда более печальным, чем мы, остальные. Однако,
как капрала, все его уважали.
Не хотел бы вас огорчать - тем более что не нуждаюсь в вознаграждении,
таким образом я никогда не зарабатывал на хлеб - в общем, мне кажется, что
он был убит в указанные вами дни, потому что один из наших солдат как-то
сказал мне в январе 1917 года: "Помнишь высокого капрала, приносившего
тебе письма? Он попал под бомбежку". Но так как я никогда не знал имени
этого Горда, то, может быть, это и не он.
А вот Селестен Пу наверняка тот, кем вы интересуетесь, другого такого
на свете не сыщешь. Какими только кличками его не награждали. Но все вши
той войны не высосали столько крови, сколько он, занимаясь снабжением. Мы
познакомились на том же участке фронта осенью или зимой 1916 года.
Рассказывали, будто он поспорил на целый жбан супа с поварами, что если,
мол, они не обернутся прежде, чем досчитают до десяти, то никогда не
догадаются, что он проделал с этим жбаном. И жбан с горячим, он сам и двое
его помощников исчезли до того, как повара обернулись. Потом те объясняли:
"Не думайте, мы так поступили нарочно, у нас свои счеты". Но ни я, ни
другие, слышавшие эту историю, им не верили, так как для Селестена Пу не
было ничего важнее, чем дать пожрать людям из своего взвода. Мы все
мечтали иметь такого спеца по доставанию супа.
К сожалению, это все, что я могу вам сообщить. Я не знал места, которое
вы называете в объявлении, появившемся в газете "Ла Бифф", и не слышал,
чтобы его так называли. Но знаю наверняка одно: если это тот самый мой
Селестен Пу, то, коли он еще не вернулся домой, все равно однажды
вернется. А если немцы взяли его в плен, то, значит, поэтому стали
подыхать с голоду и запросили перемирия. Но если бедняга помер, повесьте,
однако, замок на ваши шкафы.
Приветствую вас на гражданский манер, мадемуазель. Я непременно напишу
вам, если что-то еще узнаю.
Оливье Бержеттон".
"Жермен Пир,
"Хитрее мангусты", слежка и розыски любого рода,
Улица Лилль, 52, Париж
Вторник, 23 марта 1920 года.
Мадемуазель!
Прочитав ваше объявление в "Фигаро", я не спешу предложить свои услуги,
хотя все мои клиенты оставались мной очень довольны.
Однако хочу вам сообщить, что среди этих клиентов в прошлом году была
некая мадам Горд, чей муж, капрал пехоты, пропал на фронте Соммы в январе
1917 года.
Профессиональная тайна мешает мне раскрыть результаты моих поисков, но
я могу вам дать адрес той, которая одна может это сделать, - улица
Менгалле, 43, в Париже.
Я, конечно, мог бы быть вам полезен в вашем деле и готов сообщить мои
тарифы.
Искренне ваш,
Жермен Пир".
"Мадам вдова Альфонс Шардоло
Улица Ардоз, 25, Тур.
28 марта 1920 года.
Мадемуазель Донней!
Я мать Юрбена Шардоло, капрала в 1916 году, произведенного в сержанты в
июне 1917 года, раненного в Шампани 23 июня 1918 года и погибшего во время
транспортировки.
Юрбен был нашим единственным сыном. Муж умер от горя пятидесяти трех
лет в начале прошлого года. Он не пережил смерть того, которого обожал, и
оставил меня одну.
Я думаю, вы тоже страдаете, потеряв близкого, этим я объясняю появление
вашего объявления в "Иллюстрасьон". Я не читаю его, потому что не выношу
больше газет, опасаясь увидеть в них или прочитать вещи, внушающие мне
ужас. Я не хочу больше думать о войне. Родственница показала мне ваше
объявление. Я отвечаю потому, что там упомянут мой сын, а также место и
даты, о которых он кратко рассказал во время увольнения в конце января
1917 года.
Юрбен находился в траншее под названием Бинго на Сомме, а двумя
неделями раньше - 6 января 1917 года, - туда привезли из тыла пятерых
французских солдат, приговоренных к смерти за самострел. Их выбросили со
связанными руками между этой траншеей и траншеей противника. Мой муж,
фармацевт, вполне здравомыслящий человек, гордившийся нашей армией, не
хотел верить в эту историю, а я так и слышать не желала. Помнится, Юрбен
воскликнул: "Вам забили мозги, да поймите же, что из-за этой гадкой
истории мы потеряли половину взвода". Позднее, успокоившись, он добавил:
"Вы правы, мне все приснилось, но верно и то, что я видел всех пятерых
мертвыми на снегу, и один из них, если не двое, был совсем не тот, кого я
ожидал обнаружить".
Знаю, мадемуазель, что пишу ужасные вещи, но таковы были подлинные
слова сына. Ничего другого при мне он не рассказывал. Возможно, с отцом он
был более откровенным как во время этого увольнения, так и последнего - в
марте 1918 года. Но я ничего не знаю.
Вероятно, вы подруга, сестра, невеста одного из тех осужденных. Эта
мысль, поверьте, мучила меня, прежде чем я решилась написать. Но я
повторяю то, что слышала своими ушами из уст сына. И готова повторить это
в чьем-либо присутствии, если потребуется.
Позвольте расцеловать вас, как сестру по трауру.
Розина Шардоло".
Матильда решает ответить на это письмо как можно скорее. Но не сразу.
Надежда слишком велика, слишком сильна, ей надо успокоиться.
Вечером, пока недовольная Бенедикта ожидает, устроившись на постели,
чтобы помочь ей улечься, она садится записывать:
"Тина Ломбарди в марте 1917 года разговаривала лишь с Вероникой
Пассаван, любовницей Эскимоса.
Если бы она повстречала жену Си-Су, та бы рассказала.
Если бы она встретилась или по крайней мере попыталась встретиться с
Мариеттой Нотр-Дам, об этом бы вспомнили кюре из Кабиньяка и хозяева
меблирашек на улице Гэй-Люссак.
Естественно, она не видела и девушку, которая "не нам чета", чье письмо
с такой яростью сожгла на марсельской кухне.
Что же такого она могла узнать в расположении армии, от чего у нее
возникла надежда на то, что Эскимос жив?
Юрбен Шардоло сказал: "Один, если не двое".
Один - и у Тины Ломбарди есть основания верить - это Эскимос. Ей
хочется надеяться, что второй - это ее Нино".
Наутро, едва закончив свой туалет и выпив кофе, она записывает на
листке:
"Чем мог так отличаться Эскимос от четырех остальных в Угрюмом Бинго?
Раненой рукой? У троих она правая, у двоих - Эскимоса и Си-Су - левая.
Цветом глаз? У Манеша и Си-Су они голубые, у остальных - темные.
Возрастом? Эскимосу тридцать семь, Си-Су - тридцать один, Этому Парню -
тридцать, Нино - двадцать шесть.
На фотографии Эсперанцы все они выглядят людьми одного возраста,
отмеченными своим несчастьем и усталостью".



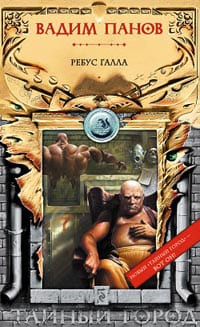


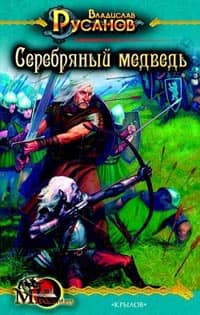 Русанов Владислав
Русанов Владислав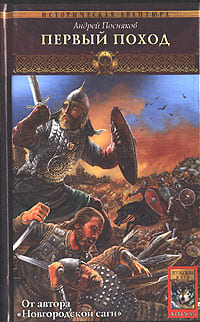 Посняков Андрей
Посняков Андрей Прозоров Александр
Прозоров Александр Свержин Владимир
Свержин Владимир Мурич Виктор
Мурич Виктор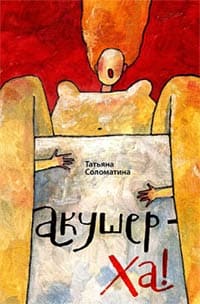 Соломатина Татьяна
Соломатина Татьяна