уснуть, мысленно переживая картину побоища.
К счастью, июль приближается к концу, и тут, в самый разгар лета, перед
ней открывается конец туннеля.
В воскресенье 3 августа 1924 года, когда ставшие ловкими и озорными
котята уже весело справляют свой четырехмесячный юбилей, Матильда сидит на
западной террасе и пишет их маслом, собрав всех в одну коробку. Но котята
не могут пребывать в покое более минуты, начинают драться или, устав,
вопреки нотациям своей матери, отправляются жить своей жизнью.
Матильда все еще помнит, как в ту минуту, когда солнце достигло вершин
сосен, послышался треск мотоцикла, мчавшегося на полной скорости по
проселочной дороге в объезд озера, и она резко выпрямилась, с кистью в
руке. И вот он уже в воротах, выключает мотор, ставит машину на костыль,
разом снимает кожаный шлем с очками. Это блондин, более рослый и сильный,
чем она его себе представляла, но убеждена, что это он, Селестен Пу. И
пока тот разговаривает с встретившим его Сильвеном, она произносит как
молитву: "Спасибо, Господи, спасибо, спасибо", и, сжимая руки, чтобы они
не дрожали, она силится не заплакать, чтобы не выглядеть, к своему стыду,
полной дурехой.
ГРОЗА АРМИИ
- Мне жаль, мадемуазель Матильда, если не смогу всего вспомнить, -
говорит этот молодой голубоглазый человек. - Прошло столько лет, я многое
пережил после Бинго. К тому же на войне все заняты своими делами, мелкими
горестями, маленькими удачами, так что видят лишь то, что происходит
невдалеке от места, где ты в наряде. Одно мгновение стирает другое, один
день - другой, так что все они кажутся похожими друг на друга.
Конечно, я часто вспоминал потом то январское воскресенье, пятерых
осужденных в снегу, и до сих пор повторяю, что это была порядочная
мерзость, однако лгать не буду - то, что я вижу сегодня, не отличается
большей четкостью, чем то, что я видел однажды вечером в Шмен де Дам или
после смерти моей матери, когда мне было десять лет.
Я не видел, как погиб ваш жених, знаю только, что, одетый в шинель без
пуговиц, соорудив единственной левой рукой Снеговика, он упал. Я видел,
как он начал его лепить. Это было в то воскресенье часов эдак в десять или
одиннадцать. Над ним беззлобно посмеивались с обеих сторон, все понимали,
что он не в своем уме. Боши даже подкинули ему старую трубку, чтобы он
сунул ее Снеговику в рот, а мы - найденный котелок без ленты.
Должно быть, я отошел куда-то по делу, уж не помню. Я был тогда чьим-то
денщиком, скажу прямо - мне это нравилось, потому что я не люблю сидеть на
месте. Вот и сегодня говорят, что я женат на моей мотоциклетке, и это так,
она, по крайней мере, не жалуется, что живет с таким ветреным человеком.
Когда я вернулся в траншею, примерно в полдень, мне сказали, что биплан
бошей несколько раз облетал траншеи, поливая их огнем, и что Василька
убили. Потом, в понедельник утром, когда мы уже находились в траншеях
бошей, подсчитывая убитых и раненых, кто-то, видевший его тело в снегу,
сказал, что пулеметная очередь попала ему в спину и убила наповал.
Зато я видел, как погиб Си-Су. Это было часов в девять утра в
воскресенье. Внезапно на левом фланге Бинго он поднялся во весь рост и
стал орать, что ему все обрыдло, что ему надо по нужде, что он хочет это
сделать как человек, а не как собака. Гангрена мучила его уже много часов,
он бредил, раскачиваясь на снегу с открытой ширинкой, и мочился. Тогда
кто-то на той стороне крикнул по-французски, что мы свиньи и негодяи, раз
бросили своего в таком состоянии. Наш капитан Язва ответил: "Коли ты такой
умный, мудачок-сосисочник, назови свое имя, чтобы я мог, встретившись с
тобой, запихнуть в рот твои яйца! Меня зовут Фавурье!"
Через час совсем рассвело. Расхаживая перед немецкой траншеей, падая и
поднимаясь, Си-Су увещевал немцев, что пора сложить оружие и вернуться по
домам, что война - грязная штука, ну и все такое. Еще он распевал во все
горло "Пору цветения вишен", приговаривая, что у него до сих пор болит
сердце по тем временам Пел он фальшиво, силы его были на исходе, а мы,
слушая его, страдали и продолжали заниматься своими делами По обе стороны
фронта было тихо.
Потом, усевшись на снег, Си-Су начал произносить какие-то бессмысленные
слова. И в этот момент кто-то с противоположной стороны выстрелил. Пуля
угодила ему прямо в голову, он упал навзничь, раскинув крестом руки. Я был
там. Я видел все это собственными глазами. Почему прогремел этот
единственный выстрел, не знаю. Капитан Фавурье сказал: "У них командир
батальона такой же подонок, как и наш. Вероятно, их телефон заболел
сифилисом, иначе они не стали бы так долго ждать приказа". Надо сказать,
что ночью боши начали разбрасывать гранаты, так что в конце концов нашему
Язве это наскучило, и мы стали поливать их как следует из минометов, чтобы
утихомирить. Но об этом я знаю тоже по рассказам, потому что в это время
отправился за супом и вернулся, нагруженный под завязку, только рано
утром.
Как погиб Эскимос, я не видел. Это случилось после того, как прилетел
биплан, убивший вашего жениха и разбомбивший Снеговика. Я уже сказал, что
до прилета самолета никто не стрелял. Думаю, и боши почувствовали
омерзение после гибели Си-Су. Помнится, лейтенант Эстранжен заметил: "Если
мы продержимся до ночи, то пошлем забрать четырех остальных". Но в то
окаянное воскресенье удача была не на нашей стороне.
Короче, часов эдак в одиннадцать меня посылают отнести какие-то
таблетки на наблюдательный пост соседней роты или записочку сержанту с
кухни, всякое бывало. Я оставляю Василька за сооружением Снеговика, словно
вокруг ничего не происходит, а Эскимоса - хорошо укрытым в убежище,
которое он вырыл себе за ночь. Крестьянин из Дордони не подавал признаков
жизни с тех пор, как вылез с завязанными руками по лестнице наверх и
пропал в темноте. Это я знаю, я был там. Когда ракеты освещали Бинго, я
видел, как Этот Парень полз вправо в сторону груды кирпичей, проступавших
из снега. Думаю, его убили первым из пятерки в ночь с субботы на
воскресенье из пулемета или гранатой. Во всяком случае, сколько мы его ни
звали, он не отзывался.
Стало быть, я вернулся в траншею в полдень. Мы перестреливались, как в
худшие осенние времена. Товарищи сказали: "Тут Альбатрос обстрелял
местность. Он облетел один, два, три раза на высоте пятнадцати метров, а
может, и еще ниже. Чтобы подбить его, надо было бы наполовину высунуться
из траншеи, но тогда соседи напротив легко могли бы тебя срезать огнем".
Альбатросом называли бошевскую "этажерку" с пулеметом в хвостовой
части. В те времена стреляли не через пропеллер, а через отверстие в
фюзеляже. Могу себе представить, как эта окаянная кукушка летит над нами
и, увидев бардак, который царит между рядами траншей, возвращается, потому
что засекла французов на местности, разворачивается и выплевывает пули,
которые поражают вашего жениха, затем заходит в третий раз, чтобы
прострелять всю местность. Но тут происходит то, о чем мне рассказали мои
товарищи: из снега поднялся парень, Эскимос, и правой рукой бросил в
Альбатроса какой-то предмет, - это лимонка, граната, она взрывается,
оторвав у самолета хвост, и тот падает в километре позади немецких линий.
Наверно, мои товарищи вопили "браво", кроме тех, кто видел, как Эскимос
упал, сраженный последней очередью окаянного пулемета. Говорят, Фавурье
крикнул: "Да заткнитесь же, мудаки несчастные! Лучше спрячьтесь".
Наверняка из-за этого Альбатроса все и началось, то воскресное побоище.
До сих пор боши верили, что пятеро - осужденные, что они безоружны. Но под
снегом можно было найти что угодно. Эскимос обнаружил гранату и
воспользовался ею.
С этой минуты и до двух пополудни шла перестрелка, несколько человек
были убиты, но потом все стихло, стали слышны скрежещущие гусеницы их
зловещих танков. И тут в дыму взрывов мы вдруг увидели, как из снега
возникла фигура марсельца по прозвищу Уголовник. Повернувшись в сторону
немецкой траншеи, он заорал: "Я сдаюсь! Не стреляйте!" или что-то в этом
духе. Я расслышал, как один из ротных капралов - Тувенель - воскликнул:
"Уймись, падла несчастная! Ну, он меня достал, теперь я его поимею!" Я не
любил этого капрала, от него вечно доставалось солдатам. Ему было трудно
промахнуться с расстояния в шестьдесят метров. Прежде чем кто-то успел
вмешаться, он разнес башку марсельца вдребезги. На другой день, когда все
было кончено, самый первый по чину из оставшихся в живых, старший сержант
Фавар, спросил, почему он так поступил, и капо Тувенель ему ответил:
"Накануне, когда все было тихо, мы слышали, как этот негодяй обещал бошам,
если они пропустят его через заграждения и хорошо к нему отнесутся,
рассказать, сколько нас, о местоположении телефона и где скрыты пулеметы".
Не знаю, может быть, и так.
Вот как они все погибли. Потом по нашей передовой стала бить немецкая
артиллерия крупного калибра, не брезгуя при этом и своими. Чтобы освещать
местность, ракеты запускались издалека, тогда мы поняли, что боши давно
ушли с передовой. Капитан Фавурье приказал отойти и нам. Унося троих
убитых, в том числе лейтенанта Эстранжена и, вероятно, с десяток раненых,
мы поспешили оставить Бинго. Я занимался ранеными, и, когда вернулся
назад, может, через полчаса, две наши роты уже перебрались вперед метров
на триста восточнее Бинго. Немецкие снаряды падали по-прежнему, но не так
плотно, как на Бинго. Тогда капитан Фавурье сказал: "Надо сблизиться с
ними. Эти подонки будут бить до тех пор, пока мы не окажемся рядом с их
засранными задницами". Вот мы и двинулись двумя эшелонами вперед.
Первую траншею бошей мы взяли без потерь. Во второй тевтонцы оставили
для виду с полдюжины смертников, в том числе фельдфебеля. Двоих мы убили,
остальные сдались. Когда я там оказался, Язва уже повел первый эшелон еще
дальше метров на двести во фланг, обходя холм, с которого не переставая
били пулеметы, оставляя следы на снегу. Рядом были только развалины фермы,
ставшие нашим единственным убежищем. Потом нас стали поливать огнем из
"максимов".






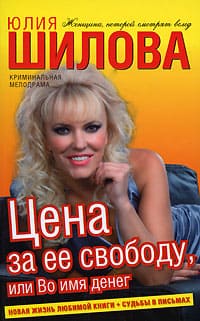 Шилова Юлия
Шилова Юлия Шилова Юлия
Шилова Юлия Никитин Юрий
Никитин Юрий Контровский Владимир
Контровский Владимир Шилова Юлия
Шилова Юлия