Андрей Лазарчук
Зеркала
восемьдесят второго года. Я накатал по горячим следам детективную повесть
и отправил ее в один журнал, который, как мне казалось тогда, с вниманием
относится к молодым авторам. Вскоре пришел ответ, что повесть прочитали и
готовы рассмотреть вопрос публикации ее, если автор переделает все так,
чтобы действие происходило не у нас, а в Америке. Это было в середине
октября (оцените мою оперативность и оперативность журнала!), а второго
ноября Боб сделал то, что сделал - то, что вытравило из этой истории дух
приключения и оставило только трагедию. С тех пор на меня накатывают
приступы понимания - будто бы это я вместо Боба точно знаю и понимаю все,
и нет больше возможности прятаться за догадки и толкования, и сделать
ничего нельзя, и нельзя оставлять все как есть... Потом это проходит.
никогда - потому что я совершенно серьезно подумывал над тем, как бы
половчее выполнить задание редакции.
только каких-то деталей, в частности фрагментов. Но я нафантазировал,
наврал с три короба, выстроил насквозь лживую версию событий, а те
события, которые в эту версию не вписывались, я отбросил. И что самое
смешное, я готов был вообще плюнуть на приличия и врать до конца.
если бы Боб не был моим настоящим другом - единственным и последним
настоящим другом, и если бы не чувство стыда за принадлежность к тому же
биологическому виду, что и Осипов, Старохацкий и Буйков, наконец, если бы
не Таня Шмелева, с которой я редко, но встречаюсь... но главное, конечно.
Боб... так вот, если бы не все это, то я мог бы состряпать детектив - и
какой детектив!
жив, не обиделся бы на меня, а только посмеялся бы и выдал бы какой-нибудь
афоризм. Я жалею, что не записывал за ним - запомнилось очень мало. Кто
мог ожидать, что все так неожиданно оборвется... Просто для того, чтобы
написать детектив, опять придется много выдумывать, сочинять всякие там
диалоги: Боб в столовой, Боб допрашивает. Боб у прокурора - то есть то,
чего я не видел и не слышал; заставлять этого придуманного Боба картинно
размышлять над делом - так, чтобы читателю был понятен ход его мыслей (Боб
говорил как-то, что сам почти не понимает хода своих мыслей, не улавливает
его, и поэтому временами глядит в зеркало, а там - дурак дураком...) - ну,
и прочее в том же духе. Он не обиделся бы, но мне было бы неловко давать
ему это читать. А я так не хочу.
участием, и Боб был моим настоящим другом, и второй раз таких друзей не
бывает, и стыд временами усиливается до того, что хоть в петлю - а лучше
бежать куда-нибудь от людей, бежать, и там, в пустыне, молить о прощении -
бежать, плакать, просить за себя и за остальных, не причастных к тем, кто
навсегда, на все времена, запятнал род людской... и вдруг понимаешь, что
по меркам людского рода это и не преступление даже - то, что они
совершали, - а так, проступок, за который даже морду бить не принято... а
ведь Боб знал все наверняка, знал все до последней точки и ничего не
сказал ни мне, ни на суде - он считал, что так будет правильно; я до сих
пор помню выражение его лица: совершенно запредельное недоумение...
мне приходится додумывать, и иногда я начинаю мучительно сомневаться в
правильности того, что додумываю. Поэтому я просто расскажу все так, как
оно происходило.
рядом. И характерный короткий, спрессованный хруст, с которым она
врезается в стену. С таким же, наверное, хрустом она врезается, входит,
погружается в тело. И чувство, с которым стреляешь в человека, торопясь
успеть попасть в него раньше, чем он в тебя, - страх, подавляющий почти
все остальное, как это сказать правильно: зверящий? озверяющий? Как легко
и как хочется убить того, кто вызывает в тебе этот страх, - и как гнусно
после...
глаза.
чуть обмяк; друзья и родственники Осипова, Старохацкого и Буйкова
аплодировали суду, адвокатесса Софья Моисеевна страшно побледнела и, стоя,
перебирала бумаги в своей папке - Боб не хотел, чтобы его защищали, она
билась об неге как рыба об лед... И мне показалось, что был момент, когда
Боб сдержал улыбку - когда глядел на аплодирующих друзей и родственников;
и я не удивился бы, если бы он улыбнулся и вместе с ними поаплодировал бы
суду - в конце концов, суд только подтвердил тот приговор, который он сам
себе вынес.
Боба, и лицо ее было скучным и плоским, как картонная маска. Мы
встречаемся с ней изредка и даже иногда разговариваем. Я ничем не могу ей
помочь - просто потому, что в том мире, откуда ей можно было бы протянуть
руку, меня нет. Там одиночество, ветер, дождь - и разбитые зеркала...
тетрадку размером. Если их закрепить одно напротив другого, четко выверив
расстояние, - должно быть точно два метра шестьдесят шесть сантиметров, -
то через несколько минут грани осколков начинают светиться: одного -
багровым, другого - густо-фиолетовым, почти черным; невозможно представить
это черное свечение, пока сам его не увидишь. Поверхность зеркал тогда
как-то размывается, затуманивается, и туда можно, просунуть, скажем,
руку...
дороги из ничего высовывается рука. Символ Земли - рука, запущенная в
другой мир. В карман другого мира. За пазуху другого мира. Символ Земли в
том мире - ныне и присно и во веки веков.
приказывал, просил, умолял молчать, молчать во что бы то ни стало, и я не
могу не соглашаться с его доводами и признаю его - наверное - правоту; но,
соглашаясь и призывая, я почему-то все равно поступаю по-своему. Зачем? Не
имею ни малейшего представления. Практического смысла в этом нет никакого.
мы с Бобом оказались за одной партой. В те времена Боб был вежливо-хамоват
с учителями, и особенно от него доставалось историчке и литераторше - Боб
слишком много знал. С программой по литературе, помню, у меня тоже были
сложные и запутанные отношения, вероятно, это вообще моя склонность - все
запутывать и усложнять, - и на этом поприще мы с Бобом очень поладили. Был
еще такой забавнейший предмет: обществоведение. Там мы тоже порезвились.
На педсовете я молчал и изображал покорность, Боб ворчал и огрызался. А
когда мы заканчивали девятый, родители Боба уехали в Нигерию на два года,
и Боб остался один в шикарной трехкомнатной квартире; я до сих пор с
удовольствием вспоминаю кое-что из той поры. Но несмотря на такой, я бы
сказал, спорадически-аморальный образ жизни, доучились мы нормально и,
получив аттестаты, расстались - на целых десять лет.
могу восстановить полностью атрибутику тех лет. То есть кое-что
вспоминается - по отдельности: клеши, например, произведенные из обычных
брюк путем ушивания в бедрах и вставки клиньев; стремление как можно
дольше продержаться без стрижки - ну, тут Боб был вне конкуренции; танцы
шейк и танго - замечательные танцы, которые не надо было уметь танцевать;
музыка "Битлз" и "Лед Зеппелин" (или я путаю, и "Лед Зеппелин" появились
позже?); в десятом классе Витька Бардин спаял светомузыку - именно не
цвето-, а свето-, потому что лампочки на щите в такт музыке то накалялись,
то меркли; про джинсы ходили какие-то странные слухи, многие их видели, но
никто не имел, и, когда Бобов отец, Бронислав Вацлавич, привез - он
приезжал изредка на неделю, на две по делам - две пары джинсов и Боб сходу
подарил одни мне, мы произвели в классе определенный фурор. Вообще вокруг
нас тогда - вокруг Боба главным образом - создалась этакая
порочно-притягательная, богемная атмосфера; девочки смотрели на нас
совершенно особыми глазами. Так мы и жили, а потом неожиданно для себя
оказались в разных университетах и, естественно, в разных городах - долго
рассказывать, почему так получилось. Изредка переписывались, несколько раз
встречались - первые годы. Потом и переписка иссякла, и встреч не было -
до самого десятилетия выпуска.
в Слободке, и там собрались две трети класса. Пили за новую семью, за
новоселье, за встречу, - пили много, но было как-то странно невесело. То
ли действовало известие, что Игорь Прилепский погиб в Афганистане, но
говорить об этом почему-то нельзя, а Юрик Ройтман уехал в Америку, и
непонятно, как к этому относиться, потому что Юрку все знали, и знали,


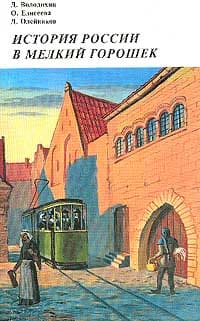



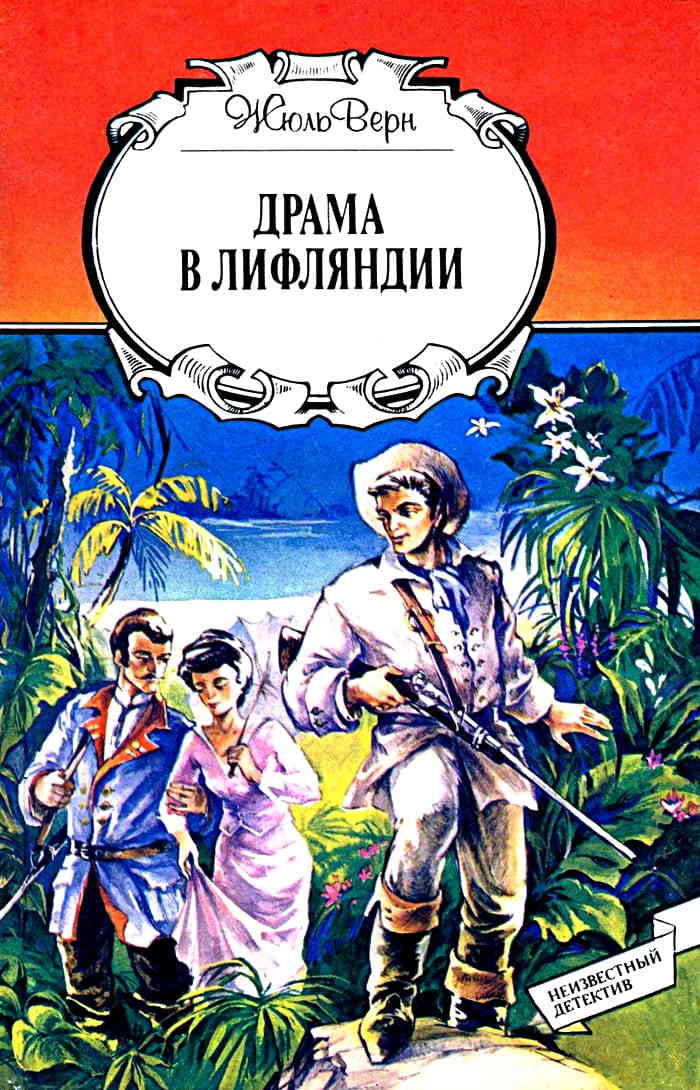 Жюль Верн
Жюль Верн Лукин Евгений
Лукин Евгений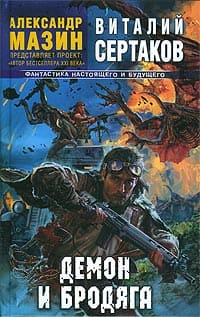 Сертаков Виталий
Сертаков Виталий Якубенко Николай
Якубенко Николай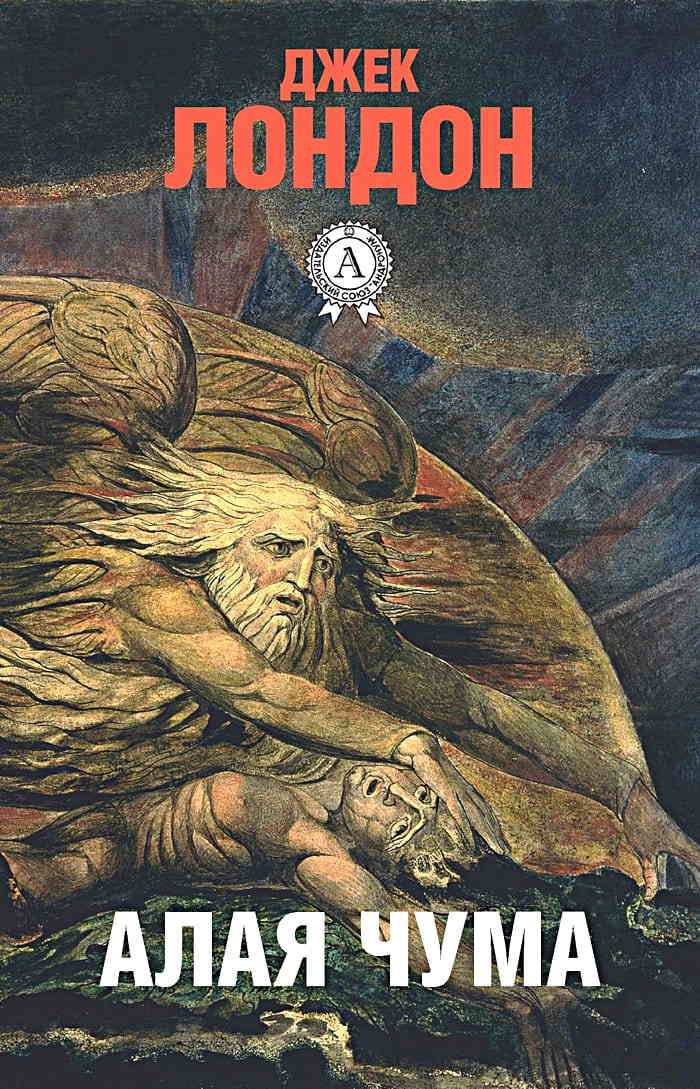 Лондон Джек
Лондон Джек Березин Федор
Березин Федор