— Я буду молчать об этом, обещаю. Даже Мотыль не узнает.
— Я должен рассказать Холдейну о Мотыле. Он, конечно, будет против. Да, вот так мы и назовем… всю операцию. Будем ее называть «Мотыль».
Это решение смягчило его печаль.
Они торопливо пошли в свое учреждение, не на работу, а в укрытие, в безликость — состояние, которое стало для них необходимостью.
Соседним с кабинетом Леклерка был его, Эйвери. Дверь украшала табличка «Личный адъютант директора». Два года назад Леклерка пригласили в Америку, и эта надпись на табличке появилась после его возвращения. У сотрудников Департамента бытовали своего рода прозвища, соответствующие их кругу обязанностей. Поэтому Эйвери звали просто «Личный отдел»; Леклерк мог бы изменить надпись на табличке в любой момент, чего не скажешь о прозвище, уже вошедшем в обиход.
Без четверти одиннадцать к нему в кабинет вошел Вудфорд. Эйвери знал, что тот зайдет: короткий непринужденный разговор перед началом собрания, намек на какой-то вопрос, выходящий за рамки повестки дня.
— Из-за чего это все, Джон? — Он раскурил трубку, откинул назад большую голову и потушил спичку широком взмахом руки. Этот крепко сбитый человек когда-то был школьным учителем.
— А по вашему мнению?
— Из-за бедняги Тэйлора.
— Именно так.
— Мне не хочется преждевременно бить тревогу, — сказал он и присел на краю стола, занятый своей трубкой. — Мне не хочется преждевременно бить тревогу, Джон, — повторил он. — Но есть еще одни вопрос, которым следует заняться, столь же трагичный, как смерть Тэйлора. — Он сунул жестяную табакерку в карман своего зеленого костюма и сказал:
— Сектор регистрации.
— Это епархия Холдейна. Исследовательский отдел.
— Я ничего не имею против старины Эйдриана. Он хороший разведчик. Мы с ним проработали бок о бок уже больше двадцати лет.
И значит, ты тоже хороший разведчик, подумал Эйвери. У Вудфорда была привычка приближаться вплотную к тому, с кем он разговаривал, надвигаясь на собеседника тяжелым плечом, как лошадь, когда трется корпусом о ворота. Он наклонился вперед и пристально смотрел на Эйвери: всем своим видом он изображал прямого, порядочного человека, перед которым стоял выбор между дружбой и долгом. На нем был ворсистый костюм, слишком плотный, чтобы образовывать складки, местами вздувающийся как одеяло, с грубыми костяными пуговицами коричневого цвета.
— Джон, сектор регистрации разваливается, мы оба знаем об этом. Входящие документы не фиксируются, досье не приносят в назначенный срок. — Он покачал головой с безнадежным видом. — Не можем найти папку со страховкой морского фрахта — с середины октября. Исчезла, просто испарилась.
— Эйдриан Холдейн ни от кого пропажу не скрывает, — сказал Эйвери. — Мы все имеем к этому отношение, не один Эйдриан. У досье такое свойство — теряться. Пропажа, о которой вы говорите, — единственная, если считать с апреля, Брюс. Не так уж плохо, по-моему, только подумайте, какое количество документов попадает к нам в руки. Мне кажется, сектор регистрации у нас один из лучших. Дела ведутся прекрасно. Исследовательский отдел, на мой взгляд, просто замечательный. И ведь здесь заслуга Эйдриана? Но все же, если вы беспокоитесь, почему не поговорить с Эйдрианом?
— Нет, нет. Это не так существенно.
Кэрол принесла чай. У Вудфорда для чая была большая керамическая чашка, на ней глазурью, крупно — его инициалы. Кэрол поставила поднос на стол и сказала:
— Вилф Тэйлор погиб.
— Я здесь с часу ночи, — соврал Эйверн. — Занимаемся этим вопросом. Проработали всю ночь.
— Директор очень расстроен, — сказала она.
— Кэрол, вы знаете что-нибудь о его жене?
Кэрол хорошо одевалась, ростом была чуть выше Сары.
— Ее никто не видел.
Она вышла, Вудфорд пристально глядел ей вслед. Потом вынул трубку изо рта и ухмыльнулся. Эйвери знал, что сейчас он скажет, хорошо бы переспать с Кэрол, и вдруг ему стало тошно.
— Чашку вам сделалц жена, Брюс? — быстро спросил он. — Говорят, она у вас мастерица.
— И блюдце тоже, — сказал он. Он начал рассказывать о курсах по керамике, на которые она ходила, о том, каким неожиданным образом это стало модно в Уимблдоне, о том, как однажды его жену чуть не защекотали до смерти.
Было почти одиннадцать; слышно было, как в коридоре собираются люди.
— Я, пожалуй, зайду в соседнюю комнату, — сказал Эйвери, — погляжу, готов ли он. Последние восемь часов для него были очень нервные.
Вудфорд взял свою кружку и сделал маленький глоток:
— Если будет возможность, Джон, скажите боссу про сектор регистрации. Я не хочу поднимать этот вопрос при других. У Эйдриана и так гудит голова.
— Директор сейчас в весьма затруднительном положении, Брюс.
— Да, разумеется.
— Он не любит вмешиваться в дела Холдейна, вы сами знаете.
Уже в дверях он повернулся к Вудфорду и спросил:
— Помните, в Департаменте был человек по имени Малаби?
Вудфорд замер:
— Боже мой, помню. Молодой парень, вроде вас. Во время войны. О Господи. — Потом серьезным тоном, но вовсе не похожим на его привычную манеру:
— При боссе это имя не упоминайте. Он очень переживал за парня, за Малаби. Один из лучших летчиков. Они почему-то были очень близки».
* * *
При дневном свете кабинет ЛеклеркЯ был не столь серым, скорее бросалась в глаза его неустроенность — казалось, что тот, кто его занимал, въехал в помещение в спешке, в чрезвычайных условиях и не знал, на сколько он здесь останется. На длинном, наспех сколоченном из досок столе в беспорядке лежали одна на другой раскрытые карты, некоторые — крупномасштабные, на таких были даже обозначены улицы и дома. Листки родовой бумаги с приклеенными полосками телетайпной ленты висели пачками на доске для объявлений, скрепленные крупными скрепками, как гранки, приготовленные для корректора. В углу стояла кровать, покрытая пледом. У раковины висело чистое полотенце. Письменный стол был новый, серой стали, государственный. Стены грязные. Кремовая краска кое-где облезла, проступила темно-зеленая. Комната была маленькая, квадратная, с занавесками от Министерства общественных работ. В свое время по поводу занавесок был шум, вопрос стоял так: можно ли приравнять звание Леклерка к определенной гражданской должности. Это был единственный случай на памяти Эйвери, когда Леклерк сделал хоть какую-то попытку уменьшить беспорядок в своей комнате. Огонь почти потух. Иной раз, когда бывало очень ветрено, огонь вообще не горел, и Эйвери в соседнем кабинете весь день слышал, как в дымоходе падает сажа.
Эйвери смотрел, как они входили; первым Вудфорд, затем Сэндфорд, Деннисон и Мак-Каллох. Они все уже знали про Тэйлора. Нетрудно было представить, как распространяются новости в Департаменте — не так, как заголовки в газетах, а как маленькая, но приятная сенсация, оживляющая рабочий день, передаваемая из кабинета в кабинет, на минуту наполняющая их оптимизмом, как прибавка к жалованью. Они внимательно смотрели на Леклерка, так заключенные смотрят на надзирателя. Инстинктом они знали его привычки и ждали, когда он нарушит свой распорядок. Не было мужчины или женщины в Департаменте, кто бы не знал, что Леклерка вызвали посреди ночи и что он спал в учреждении.
Они расселись вокруг стола, с шумом поставили перед собой чашки, как дети перед обедом, — во главе Леклерк, по обеим сторонам остальные, на другом конце — пустой стул. Вошел Холдейн, и Эйвери понял, как только увидел его, что это будет своего рода поединок — Леклерк против Холдейна.
Взглянув на пустующий стул, он сказал:
— Значит, мне придется сесть на самом сквозняке.
Эйвери поднялся, но Холдейн уже сел:
— Не беспокойтесь, Эйвери. Я все равно больной человек.
Он кашлянул так же, как он кашлял круглый год. Даже летом ему не становилось лучше; он кашлял в любое время года. Остальные неловко заерзали, Вудфорд взял пирожное. Холдейн бросил взгляд в сторону камина.
— Что, это лучшее, что для нас может сделать Министерство общественных работ? — спросил он.
— Дождь, — сказал Эйвери. — Дождь мешает. Пайн попробовал что-то исправить, но безуспешно.
— А-а.
Холдейн был худощав, с длинными беспокойными пальцами; замкнутый на себе человек, с медлительными движениями, подвижными чертами лица, лысеющий, скупой, склочный и сухой; со своим особым графиком и своей особой секретностью; любитель кроссвордов и акварелей прошлого века. Казалось, он презирал весь мир.
Вошла Кэрол с досье и картами, положила их на письменный стол, который в отличие от всего остального в комнате Леклерка был прибран. Все неловко ждали, когда она уйдет. Она вышла и плотно закрыла за собой дверь. Леклерк осторожно пригладил рукой свои темные волосы, будто они растрепались.
— Тэйлор убит. Вы все это уже знаете. Он был убит прошлой ночью в Финляндии — он поехал туда под другим именем. — Эйвери отметил про себя, что имя Малаби произнесено не было. — Мы не знаем подробности. По внешним признакам, он был сбит машиной. Я сказал Кэрол, чтобы она записала, что это был несчастный случай. Это ясно?
Да, сказали они, это вполне ясно.
— Он поехал забрать пленку у… одного человека, с которым мы держим связь в Скандинавии. Вы знаете, кого я имею в виду. Не в наших правилах использовать обычных курьеров для оперативной работы, но здесь другое дело; нечто очень важное. Я полагаю, Эйдриан меня поддержит.
Он выпростал запястья из белых манжет, вскинул их кверху и вертикально сложил вместе ладони и пальцы, будто молился, чтобы Холдейн его поддержал.
— Очень важное? — медленно повторил Холдейн. Голос был резкий, как он сам, хорошо поставленный голос без лишних акцентов, завидный голос. — Да, другое дело. Но не пустячное, — потому что Тэйлор погиб. Нельзя было использовать его, ни в коем случае, — категорически сказал он. — Мы нарушили первый принцип разведслужбы. Мы в тайной операции использовали официальное лицо. Не говоря уже о том, что у нас больше нет штата тайных агентов».
— Пусть судьями будут те, кто стоит над нами, — с притворной скромностью предложил Леклерк. — По крайней мере вы знаете, что Министерство давит на нас ежедневно: нужны результаты. — Он поворачивался лицом то к одним, то к другим: то к сидящим слева, то к сидящим справа, будто принимал их в держатели акций. — Пришло время всем вам узнать подробности. Как вы понимаете, перед нами поставлена задача исключительной степени секретности. Я предлагаю ограничить допуск уровнем заведующих отделами. На настоящий момент были допущены только Эйдриан Холдейн и один или двое его подчиненных из исследовательского отдела. Еще Джон Эйвери как мой помощник. Я подчеркиваю — наши коллеги из Цирка вообще ничего не знают об этом. В том числе о наших мероприятиях. Кодовое название операции — «Мотыль». — Он говорил ровным, хорошо поставленным голосом. — Оперативное досье в конце каждого дня будет доставляться непосредственно мне или Кэрол, если меня не будет; отдельно будет храниться библиотечная копия. Такой порядок ведения оперативных досье был у нас во время войны, и, по-моему, вы все с ним знакомы. Этот порядок мы теперь заведем у себя. Допускной список я дополню именем Кэрол».
Вудфорд указал на Эйвери своей трубкой и покачал головой. Только не молодой Джон: Джон не был знаком с этим порядком. Сэндфорд, сидевший рядом с Эйвери, пояснил. Библиотечная копия хранилась в шифровальной комнате. Выносить оттуда ее нельзя. В это досье подшивают все шифровки, как только их составляют; допускной список — это список лиц, которым разрешается читать конкретное досье. Скрепками пользоваться не разрешается, страницы должны быть прошиты. Остальные сидели с самодовольным видом.
Сэндфорд был администрация; этот добродушный человек носил очки в золотой оправе и приезжал в учреждение на мопеде. Однажды Леклерк высказался против этого, правда без определенных мотивов, и теперь Сэндфорд ставил мопед чуть поодаль, напротив больницы.
— Теперь об операции, — сказал Леклерк.
Тонкая линия соединенных рук рассекала надвое его радостное личико. Один Холдейн не смотрел на него; его взгляд был обращен к окну. Шел дождь, капли задали мягко, словно весной — в темной аллее.
Леклерк резки встал и подошел к карте Европы на стене. В разных местах были приколоты флажки. Поднявшись на цыпочки и вытянув вверх руку, чтобы достать до Северного полушария, он сказал:
— Имеется опасный очаг в Германии. — Раздался смех. — Южнее Ростока: место называется Калькштадт, вот здесь. — Его палец двигался вдоль Балтийского моря. по береговой линии Шлезвиг-Гольштейна, потом повернул па восток и остановился в дюйме или двух южнее Ростока. — Одним словом, имеются три признака, по которым можно предположить — я не говорю, что они вполне доказательны, — что там что-то происходит, нечто весьма значительное, похожее на подготовку к размещению новых военных объектов. Первый признак появился ровно месяц назад, когда мы получили донесение от нашего представителя в Гамбурге, Джимми Гортона.
Вудфорд улыбнулся: подумать только, неужели старина Джим еще существует?
— Беженец из Восточной Германии перешел границу в районе Любека. переплыл реку; железнодорожник из Калькштадта. Он пришел в наше консульство и предложил продать сведения о новой ракетной установке вблизи Ростока. Вы прекрасно понимаете, что в консульстве его послали куда подальше. Поскольку Форин Офис отказывается даже предоставить нам возможность пользоваться диппочтой, маловероятно, — он чуть улыбнулся, — что кто-то захочет купить для нас информацию оборонного значения. — Одобрительный гул приветствовал его шутку. — Тем не менее по счастливому стечению обстоятельств Гортон прослышал об этом человеке и поехал в Фленсбург, чтобы с ним встретиться.
Вудфорду вспомнилось кое-что. Фленсбург? Ведь, кажется, именно там в сорок первом они засекли немецие подводные лодки. Во Фленсбурге тогда были серьезные дела.
Леклерк ласково кивнул Вудфорду, будто в знак того, что ему тоже вспомнился тот случай.
— Бедняга побывал во всех представительствах союзников в Северной Германии, но никто не пожелал его выслушать. Только Джимми Гортон с ним немного поболтал.
Леклерк строил свой рассказ так, что можно было подумать, будто Джимми Гортон — единственный умный человек среди кучи дураков. Он подошел к письменному столу, вынул сигарету из серебряной коробочки, закурил, взял папку с жирным красным крестом на обложке и тихо положил ее на стол, так, чтобы видели все.
— Это донесение Джимми, — сказал он. — Первоклассная работа по любым меркам. — Сигарета между пальцами казалась очень длинной. — Перебежчика зовут, — вдруг прибавил он, — Фритше.
— Перебежчик? — тут же возразил Холдейн. — Просто-напросто жалкий беглец, железнодорожник. Таких людей мы обычно не называем перебежчиками.
Леклерк ответил, словно защищаясь:


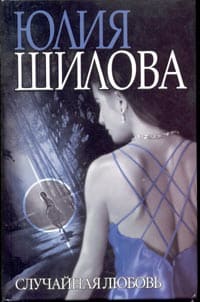
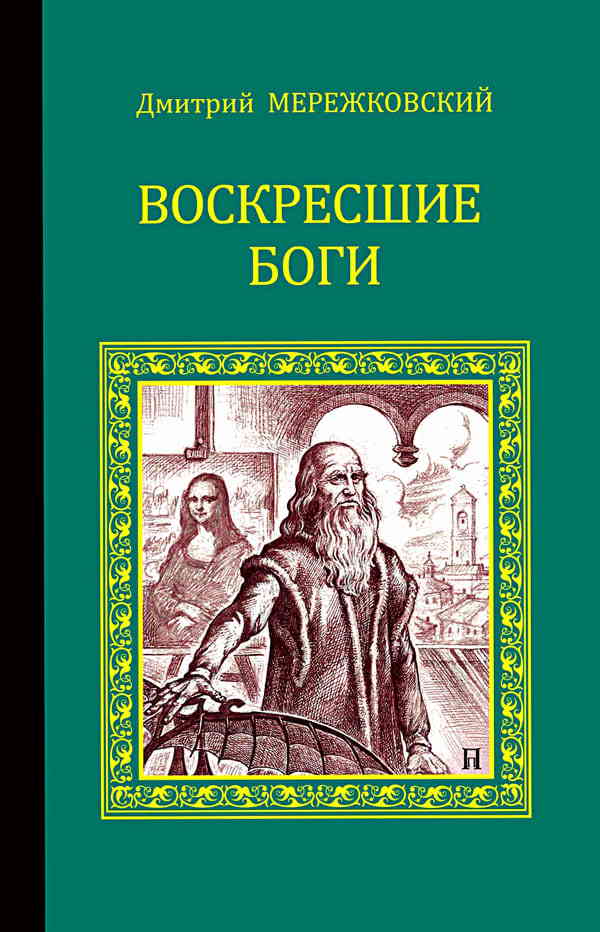


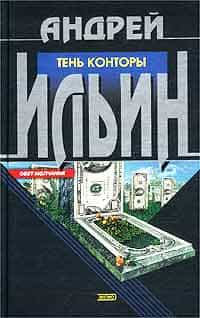 Ильин Андрей
Ильин Андрей Маккарти Кормак
Маккарти Кормак Лукьяненко Сергей
Лукьяненко Сергей Шилова Юлия
Шилова Юлия Шилова Юлия
Шилова Юлия Березин Федор
Березин Федор